


|
Вернуться
Комментарии Философская проза жизни Ирина Лежава, Димыч Чваков
Он был человеком страсти, я знаю. Чего бы ни касался, все превращал в исступление. Только увлечения его обуревали какие-то рассудочные: докопаться, понять, свести мир к бабочке на булавке. Если бы он любил других женщин, я бы обиделась и перестала добиваться его теплоты. Но он демонстрировал равнодушие к ним, и я вопреки логике надеялась на ответную ласку. Сколько лет существовала я экспонатом его коллекции, посчитанным, описанным и помещенным в ячейку! Разве можно ощущать радость, будучи запертой в любовном одиночестве, как в вакууме? Ему казалось, он сделал меня счастливой, потому что мы живем вместе и у нас растут дети. А я задыхалась в нашей бесчувственной близости, засыхала неполитым цветком, истончалась до призрака. После его смерти дочь нашла в бумагах отца заметки. Для кого их писал Вадим? Сочинял рассказ, а получилось, как всегда, перечисление признаков исследуемого объекта? Герой его лишен имени, словно автор ведет речь о пронумерованном предмете из экспозиции провинциального музея. Почему муж сделал его анонимом? Намек на недостаток в герое личности? Уверенность, что имя — это мелочь, не имеющая значения? Вадим никогда не объяснял своих побуждений: думай, как хочешь, только не обременяй меня своими домыслами. Иногда мне кажется, будто он мечтал остаться безымянным и в моей памяти. Осознавал ли, препарируя себя, что я буду первой и, возможно, единственной его читательницей?
Рубль был вытертый многократными ласкающими движениями пальцев. И не просто пальцев, а всей пятерни, включая ладонь. Некоторая шершавость не вызывала неприятия. Полно, что вы. Разве драгоценные металлы, пусть и не палладиевой группы, могли заставить его думать о чём-то ином, кроме спортивных наград, которые умозрительно выглядели невероятно далёкими, незаслуженно невостребованными. А его серебро, серебро рубля, казалось не таким, как прочий «лабораторный аргентум» из разряда сокровенных металлов нашей несравненной молодости. Впрочем, стоит ли вспоминать ту злополучную травму, после которой жизнь представилась жутко неприятной штукой, и продолжалось это никак не меньше полугода? А серебро наградного пьедестального блеска досталось кому-то другому. «У меня же есть своё серебро, — рассудил он, — просто Всевышний уравнивает шансы, раздавая награды неимущим». Сколько он себя помнил, столько у него был этот рубль. Серебряный, екатерининский, отчеканенный в 1782-ом году. Так-так, чем же знаменита дата сия в истории Отечества? В Петербурге на улицах число фонарей достигло трёх с половиной тысяч. Что ещё? Общество масонов приняло на своё иждивение двадцать студиозов-гуманитариев. Четвертого июля светлейший князь Потёмкин, уже Таврический, был запримечен в числе прочих приглашённых к императорскому столу на званом обеде в честь присоединения Крыма к России. А в августе случилось ещё одно важное событие: столетие вступления на российский престол Петра I было ознаменовано в Петербурге открытием памятника царю работы скульптора Этьена-Мориса Фальконе. Хм... Вам мало? Наверное, был знаменит тот год ещё чем-то. Например, невиданным урожаем лещины где-нибудь в Тамбовской губернии. Или, скажем, волнениями беспокойных башкирских батыров, не желающих нести государеву службу. Однако какое сейчас это имеет значение? Двадцать первый век на дворе. Как всегда! Держит в памяти множество ненужных событий. Живет в них. Бесконечно мусолит рассуждения об абстрактных ценностях. Но то, что серебряный рубль принадлежал нам обоим, ему невдомек. Что я имела и имею права, хоть и не предъявляю, — ни разу не приходило в убеленную мудрой сединой голову. Где воспоминания обо мне, о нашем? Я двадцать три года делила постель с мужчиной, а он не заметил моего присутствия... Когда я впервые увидела Вадима, он вертел серебряный рубль между пальцами правой руки. Монета скользила, точно живая, — нырнет под фалангу и тут же вынырнет, забавно поблескивая. Мне представилось: это плоский круглый выдрёныш, побывавший под катком и выживший, и он заигрывает со мной. Не могла оторвать глаз и, сама не поняв каким образом, приблизилась к незнакомцу. — Любезная фрейлейн, вам нравятся фокусы? — спросил он с улыбкой. — И не зовут ли вас, по стечению обстоятельств, Екатериной? — Катей... — удивленно согласилась я. — Вот так сюрприз! — он перестал вертеть монету и нахмурился. — Вы верите в знаки? Я ничего не ответила — не поняла вопроса. Рассматривала костыль, прислоненный к дворовой ярко-зеленой скамье, и пыльный, в разводах гипс — как смешно контрастирует с ним подвязанная веревкой галоша жуткого аспидного цвета. — Похоже, судьба благосклонна к вам, — церемонно произнес он, протянул серебряный рубль и продолжил обычным тоном. — Возьми — станешь Екатериной Великой. — Не хочу быть великой! — я спрятала руки за спину и сделала шаг назад. — В великих Екатерин не влюбляются. — Ну, ты и скромняга! — засмеялся Вадим, опустил монету в нагрудный карман и потянулся за костылем. — Правильно разумеешь: пока я травмированный спортсмен, но потом... — голос его стал напевным, как у сказителя. — Останешься до совершеннолетия тихоней, получишь подарок: звезду с неба… в обертке из перистых облаков! — Мне мама не позволит звезду дома держать, — на полном серьезе испугалась я. — Звезда большая и горячая — испортит мебель... Мне было двенадцать, ему четырнадцать. С невеликого пригорка моего возраста он виделся взрослым и ответственным — я ему бесповоротно поверила. Сама удивляюсь своей глупости! Понимала, что больше его не увижу, но позволила себе фантазировать без оглядки. А он возьми и возникни вновь в моей жизни через пять лет... Ловушка-фантом захлопнулась.
И всё-таки, как к нему попала эта монета? Очень любопытно. Попробуй, вспомни. И он попробовал... Наверное, ему пожаловал эту монету соседский соплюн Вовка в обмен на защиту от таких же, как он сам, небольших, но крайне коварных пацанов детсадовского разлива — подготовительная группа, Советский Союз. Да. Скорее всего, именно так и было. Рубль не мог не понравиться. Он не просто очаровывал или, иначе говоря, приводил в неистовство своей древней родословной. Монета будто перевернула всю его жизнь, до того момента не имевшую, по большому счёту, никакой иной ценности, кроме невзрачного номинала среднего школьного возраста. А тут вдруг! Он, которому уже почти тринадцать и который в курсе дела, как себя вести, чтобы дядя Жора из соседнего подъезда не докапывался, на каком берегу Иордана родилась большая часть твоих родственников... Дядя Жора... Папа звал его Егорием, небожьим человеком. Сей странный до невероятности представитель класса люмпенов со стажем. Этакий неаккуратно побритый халдей и сатрап по складу характера, состоящий на прикорме у органов слуха и зрения «нашей родной партии», от которого, казалось, нет никакого избавления, кроме тихой затрапезной почтительности... И вот... прошло время, начальству стали неинтересны твои вторичные религиозные признаки, в конечном итоге вовсе и не религиозные… Обычные приметы социалистических атавизмов. Как? Вам незнакомы подобные термины? Не стану делать удивлённое лицо, хотя очень хочется. Мы — это мы, и никто не в силах убедить меня в обратном... Не слишком веская сентенция. И что с того?
Его интересовали сатрапы, органы, религиозные признаки и прочая чепуха, но не девочка, которой он обещал подарить чудо. А я со дня знакомства думала о нем по любому поводу — отвлекая себя от обид, забавляясь в минуты отдыха, мечтая перед сном о взрослении. Вадим стал для меня чем-то вроде сказочного ключа от волшебной дверцы. С мелодичным звоном проворачивается в скважине ключ, щелкает замок — и мир предстает в совершенно ином обличье. Не то чтобы мне нравились лицо или голос, или я в незнакомца втюрилась. Честно говоря, через месяц уже не помнила мальчишеских черт. Не забылись только костыль и смешная аспидного цвета галоша, пьедесталом поддерживавшая гипсовую ногу. Вещи были такими необыкновенными — точно скипетр властелина — и акцентировали избранность своего хозяина, его принадлежность к исключительному и неведомому. Парень с монетой-выдрёнышем, резвящимся между фалангами пальцев, казался особой более царственной, чем сам король, всамделишное величество. Анемичная девочка-подросток узрела в нем ангела будущего, обещание праздника, который прежде обходил стороной. Родителям было не до меня. Мама — медсестра, отец — военный. Существование на чемоданах, в мелькании городов, улиц, равнодушных чужих домов. И вдруг это неожиданное: «На совершеннолетие подарю звезду с неба в обертке из перистых облаков!» И дал обещание не кто-нибудь — почти взрослый мужчина, встреченный в бабушкином раю: разве мог не видеться раем уголок, где всегда ждут и всегда тебе рады? Где из года в год ничего не меняется и не страшно встречать завтрашний день… Бабушка сидит на скамеечке, довязывая свитер. Дедушка возится с деревцем, бывшим саженцем, купленным на собственные деньги для украшения общей дворовой территории. Я в ожидании нескорого совершеннолетия прыгаю через скакалку, задрав к небу голову, — любуюсь вязью рассеянных по бело-голубым просторам перистых облаков. Ни в одном другом городе я не встречала такого высокого неба... Как обидно, что Вадим шутил и запамятовал свое обещание, а я была серьезна и с тех пор ждала.
Серебряный рубль... Много ли в нём соединилось такого, от чего хотелось бы жить лет до ста, не обращая внимания на дежурные недомогания и хронический гастрит? Его нет давно, отменного ощущения детства, от которого свежесть взгляда радует твоё существо до самых затаённых глубин, где, по показаниям философски настроенных теологов, ютится бессмертная душа. Нет его давно, ощущения беспричинного и бессистемного счастья «за бесплатно». Осталось лишь послевкусие. Этот странный, еле уловимый признак того, что неправильно живёшь... сейчас. А тогда жил правильно? Если верить воспоминаниям — да. Боже, благослови воспоминания вчерашнего дня... тоже. Нет, правда, стабильно же вроде всё. Добился этого сам, что называется, именно собственным трудом. Именно твоими усилиями, твоё это всё... Без вопросов твоё, так ведь нет. Что-то гложет, не даёт уснуть.... Или даёт, но не тебе. И не твоим безумным друзьям, которым «всегда больше всех надо». Точно ты частичка единого европейского или иного механизма... а они — те, кто станут тебе пенять относительно твоих же странных преференций, они — эти тени сомнений, коих всегда найдётся в избытке на твою облысевшую головушку… Серебряный рубль с профилем Екатерины Великой позвал в детство чувством нереального ощущения близкого счастья... А ты? Кто же ты, в конце-то концов? Тебе вовсе не так грустно, ты совсем не потерян для нового мироустройства. Ты — это тот самый ты, который давно уже устал быть человеком общества презрения, кому нельзя стать новым индивидом в силу изрядной изношенности ходовой части и механизмов поворота «подслеповатой башни». Ушла, отзвенела молодость, и нет причин поминать трагическое. Ты удовлетворён, старый? «Старый» — именно так мы звали друг друга тогда, и ещё «крендель», «лопух» или «кошелёк», а однокурсницы — поголовно кошёлки (кроме той, единственной)! Да мало ли как ещё... Вопреки нежеланию — уж очень тяжело продираться сквозь буквы в прошлое! — просматриваю заметки дальше. Почерк неровный: то мелкий, то покрупнее, острия букв торчат, как иголки из головы мягкотелого Страшилы — обожаемого дочерью пугала. Такой была и его речь: формулировки задиристые, а смысл округлый. Подруги считали мужа занудой и за спиной перешептывались, жалели, а мне было приятно следовать кругами его мыслей. Как тогда, с выдрёнышем... Будто в голове его ныряет и выныривает серебряная монета, и меня тянет, тянет погрузиться в таинство мелькания смыслов. Только говорил он всегда сам с собой — я была наблюдателем, а не участником его размышлений. Так сложилось с самого начала. Кто виноват? Когда мы столкнулись в институте — я по-цыплячьи желторотая первокурсница, Вадим на третьем, — он меня не узнал. Равнодушно скользнул взглядом и отвернулся. С болью в сердце я наблюдала: мой ангел будущего неприкрыто влюблен в зазнайку, которая делает вид будто он ей нравится, но, чую я, ищет другого. Сидят на подоконнике, взявшись за руки, и я прохожу мимо, намеренно беззаботно болтая с Веркой. Ощущаю нутром, как зазнайка красива и как он увлечен ее русалочьими повадками, а себя чувствую побирушкой в поисках любовного подаяния. «Ну что в нем хорошего? — убеждаю себя. — Худой, длинный. Глядит странно. Двигается неуклюже. Не от мира сего. Витает неизвестно где, принимает тебя за кого-то другого. И даже серебряной монеты больше в руке не вертит...» А в ушах вопреки собственным доводам: «На совершеннолетие подарю звезду с неба в обертке из перистых облаков!». Совершеннолетие — обманщик о нем и не помнил! — должно было наступить через три месяца. Вадим в конспектах, диспутах, чувствах... не ко мне.
Он коллекционировал, как это ни чудно звучит, себя... Вернее, свои ощущения, своё отношение к тому или иному событию в жизни. Он просто не мог иначе. Коллекция суммировалась в странную последовательность, от которой не оставалось ни конца, ни края, ни даже середины. Всё уносило вездесущим временем в какую-то непонятную даль, где складировалось аккуратными стопочками в виде переполненных сиюминутных кластеров-чувств... И доступ туда был весьма ограничен и совсем непредсказуем. Захотелось тебе окунуться в давешнее, прекрасное... ан нет туда хода, хотя вчера ещё было проще пареной репы. Даже друзья пугались его внезапной непосредственности, следовавшей в ответ на чужое чувство и не совсем ему адекватной. Просто он всегда понимал и даже порой одобрял предстоящую возможность недоосмысленной вакханалии и, казалось бы, такого очевидного счастья. Он знал... Он верил... А серебряный рубль был тому порукой, тому бессменной основой...
Да что он понимает в своем рубле! В его тончайшей любовной магии, под власть которой я попала! Вертел им, играя, дарил, уверенный, что вернется. Считал символом прошлого, а рубль пролагал ему дорогу в будущее. Так и подмывает высказать покойному, чего не открыла бы живому. Молчала, потому что некому слушать. Хранила в себе. Ждала, когда наступит подходящий момент. В тот день я проснулась от собственного крика. Было около шести — за окном темно. С соседней постели на меня удивленно глядела Верка, привыкшая, что я сплю спокойно и никого не бужу. Третья обитательница нашей комнаты ночевала не в общежитии, а то случился бы скандал, наверное. Верка соскользнула с кровати, достала из тумбочки плюшевого зайца: — С днем совершеннолетия, Катенька! Чтобы детство не забылось, вот тебе дружок ушастый! Будет хранить от соперниц и невыполненных обещаний! — она ничего про Вадима не знала, просто желала удачи и любви. Я обнимала зайца и глотала слезы. Вместо звезды в обертке из перистых облаков получила в дар глупую игрушку. Так мне и надо, дуре набитой! В отвратительном настроении отправилась в институт, с трудом высидела первую пару. На перемене влезла с ногами на подоконник, где обычно миловался с зазнайкой Вадим. Хотелось разбить стекло и прыгнуть под ноги прохожим. Но тут рука нащупала в щели у рамы серебряный рубль. Оставлено как издевка? В память о невыполненном обещании? Зачем? Не я ведь забыла! Глядела на рубль и думала, почти не страдая: «В день своего совершеннолетия верну потерянное владельцу и покончу с собой. Пусть даже он не догадается, что задолжал мне многое!». Отыскала аудиторию, где занимались третьекурсники. Вадима не было. Кто-то из опрошенных объяснил, что он уехал в общежитие, и даже назвал номер комнаты, где живет: точно надо мной, только двумя этажами выше. Мало соображая, что делаю, я ринулась в эту комнату. Вадим сидел у открытого окна и смотрел вниз, как недавно смотрела я. Подошла и протянула ему монету. — Оставь себе, — скривил он губы. — Мне она больше не понадобится. У тебя грустные глаза, хочу, чтобы стали веселыми. Может, вспомнишь когда-нибудь: был такой парень… — Что случилось? — спросила я. — Пустяки! Бросила девушка, и надо учиться обходиться без любимых организмов. Тебе нравится жить? — Я пришла за своим! — вместо ответа запальчиво закричала я, хотя до того не собиралась этого делать. — Меня зовут Катей. Сегодня мое совершеннолетие, ты обещал подарить мне в этот день звезду с неба в обертке из перистых облаков. Вадим удивленно смотрел на меня и не мог вспомнить. — У тебя был костыль и гипс с галошей аспидного цвета. — Так мы встречались на заре времен... И ты ждала?! Я больше никогда не слышала, чтобы он так смеялся. Серебряный рубль, скользнув меж пальцев, нырнул куда-то в глубину сердца. А когда вынырнул, дело было сделано: рубль нас навеки соединил.
Когда-то давно, он хорошо помнил это, играли в «чику» всем двором, порой называя это мальчишеское соревнование расшибалочкой. Серебряный рубль использовался в качестве битка. Большинство пацанов бегало по свалкам в поисках старых автомобильных аккумуляторов. Из них извлекались свинцовые решёточки, которые потом легко переплавлялись на костре, и вот вам результат — несколько превосходных битков застывают в формах, выдавленных в сыром песке. Но всё равно это не то, что серебряный рубль. Он хоть и был значительно легче, но приносил своему хозяину неизменную удачу. Фарт не отворачивался никогда. Екатерининский дух, живущий в серебре конца восемнадцатого века, словно бы помогал выходить победителем из любой сложной ситуации. С этой монеты-битка началась его страсть к коллекционированию. Сначала он собирал старинные монеты, но вскоре прекратил, поскольку поиск раритетов нумизматики требовал повышенного внимания к процессу и какого-то начального капитала. Ни того, ни другого под рукой не оказалось. Филателия — другое дело. Особенно, когда есть связи в мире почтовых марок. Точнее сказать, в кругу работников почты. Скоро пришла первая удача. Он выменял серию «Космонавтика», которую принесла ему тётя, работавшая главным бухгалтером почтового отделения связи, на австрийскую марку времён ветхозаветных и могущественных Габсбургов. Тогда известный по роману Ярослава Гашека престарелый маразматик Франц-Иосиф I был ещё в полном здравии и охотно волочился за десятком юбок на неделе. Потом за этот кусочек фигурной бумаги с австрийским разлапистым орлом на штампе гашения дали целый набор. Цветную серию из шести марок Елизаветы II Английской и необычную — почтовый знак оплаты, перфорированный только с двух сторон, — с изображением надутого, словно индюк, премьера сэра Черчилля (передний план) и Елизаветы The Second (на фоне). Невероятное непочтение к монаршей особе! Правда, поговаривали, что королева — племянница неистового сэра. Тогда это всё объясняло. Немного позднее он узнал, что информация о кровном родстве — чьи-то досужие домыслы. Герцогское семейство Мальборо, из коего происходил сэр Уинстон, на самом деле не имело прямых родственных связей с Виндзорами. А то, что Елизавета Вторая Английская вручила сэру Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю высшую награду империи, Орден Подвязки, говорит только об исключительном таланте умницы премьер-министра, а вовсе не о его близости к монаршему дому. Но, собственно, никаких новых полезных знаний эта информация ему не дала. Главным было, как идёт процесс пополнения коллекции. Следом за британским успехом не замедлил обозначиться не менее грандиозный. За серию «Бабочки» ему удалось выторговать марку с изображением Гитлера, он же Адольф Шикльгрубер, 1936-го года выпуска, со штемпелем Берлинского главпочтамта и имперской канцелярии. Никто из его знакомых по-немецки читать не умел, поэтому относительно имперской канцелярии все поверили на слово...
И опять потрясаюсь избирательности его памяти. Сколько слов о марках, чужих сэрах, Екатерине Великой! И это итог нашей жизни? А у меня внутри иное: мы с Веркой выбираем в магазине материю на свадебное платье, но все ткани кажутся недостаточно праздничными. Усталые и огорченные, заходим в гости к сокурснице Галке, пьем чай и делимся. Жалуемся, что приличной девушке замуж выйти не в чем, — напрасно пол-института собирало деньги. А Галкина бабушка выносит крепдешин. Бледно-розовый, с нежным отливом в кремовый… Мы с Веркой обмерли от восторга. Бабушка сказала, что покойный муж привез этот трофей из Германии, и теперь она хочет его мне подарить. Мы не согласились взять отрез даром и отдали за него огромные, по нашим возможностям, деньги. Но Галка все равно немного расстроилась, что крепдешин уплыл. Бабушка заметила настроение внучки и отстегнула от ворота брошь — букет темно-красных гранатовых роз размером с нашу серебряную монету. Приколола брошь к Галкиному халатику и обещала ей к свадьбе лучший, чем мой, крепдешин. Вчетвером мы придумали фасон свадебного наряда. Галкина бабушка провела еще одну ревизию своих неиссякаемых запасов и вынесла немецкую ночную рубашку, похожую на бальное платье, — вся в кружевах. Мы, кое-что изменив, воссоздали на пергаментной бумаге выкройку этой рубашки, перенесли на крепдешин, наметали, примерили. Так рождался мой знаменитый свадебный наряд, который потом заносился до дыр. Рука не поднимается его выкинуть — до сих пор хранится аккуратно сложенный в одном из чемоданов на антресолях. На свадьбе Верка смотрела на меня сочувственно. Я не понимала, почему она так глядит, — витала в своих перистых облаках. Думала, получила наконец звезду с неба. Все у нас с Вадимом будет замечательно: впереди годы взаимной любви, сделаем карьеру и вырастим деток. А когда состаримся, станем похожими на моих бабушку с дедушкой: разве плохо ходить друг за дружкой, помогая хозяйничать и сплетничая о внуках? Костюм жениху одолжил однокурсник, на собственный денег не хватило. А свадьба, несмотря на нищету застолья, прошла очень весело: студенты и должны быть бедны. Счастью их скудость быта — не помеха.
Однажды, когда он уже учился в вузе, приехал в каникулы в родной среднерусский городок. И здесь, прогуливаясь по недавно засеянному полю, обнаружил раритеты, на которые тракторист, плугом вывернувший из земли это чудо, не обратил, видимо, внимания. Меч и фрагменты кольчуги. Он недели две самозабвенно доводил найденные сокровища до блеска, счищая ржавь веков где-то вычитанным способом — при помощи ортофосфорной кислоты. Добившись неплохих результатов (каверны и раковины, появившиеся от времени и некачественной ковки, не в счёт) он решил для себя, что коллекционировать старинное оружие следовало начинать несколько раньше. Решил — и сдал свою находку в краеведческий музей, позднее ни разу не пожалев об этом. История Родины — она, брат, не какой-то там кусочек бумаги с перфорацией и нанесённым на него изображением австрийских орлов, немецких стервятников и английских особ королевского дома Виндзоров. Только относительно екатерининского рубля ещё оставались некоторые сомнения, пока их спустя немало лет не рассеял один нумизматический каталог, из которого Прошка (наконец-то автор удосужился дать имя своему герою), а теперь уже Прохор Артёмович узнал, что рубль этот серебряный оценивается экспертами в восемь-десять тысяч долларов. Сие, согласитесь, несказанно малая сумма для того, чтобы продать Родину, пусть и малую, если у тебя завёлся гнусный червячок жадности в районе солнечного сплетения. А уж о Прошке и говорить нечего... Не зря его называют бессребреником жена, друзья и коллеги по работе. Жена с любовью, друзья с завистью, коллеги с презрением. И верно, нет теперь у него того самого серебряного рубля с мягкими, скруглёнными от частого хождения по державным финансовым трактам рёбрами и таким несказанно близким рельефным изображением Екатерины Великой в буклях. Отдал в качестве своего взноса на операцию одной школьной знакомой. Ну, что вы, какая там первая любовь! Просто сидели за одной партой. Теперь у её сынишки что-то нехорошее с кровью. И марки свои знаменитые тоже продал, а жена имела на них виды с норковым отливом. Чуть до развода дело не дошло. Но не дошло же, чёрт возьми! Не для того живём... Вот хотел сказать, но понял, что неуместно это, пафосно чересчур. Нельзя благое дело словами-то забалтывать. Нельзя о себе думать возвышенно, грех поскольку... Бессребреник? Интересно, смог ли бы он продать свою малую Родину за такую сумму? Вот большую-то Родину продают за вполне адекватные евро. Это настолько же эфемерно, как тридесятый голос группы «Мираж» четвёртой концертной ипостаси. Зато теперь Прохор Артёмович демонстрирует внукам тот самый древнерусский меч и кольчугу всякий раз, когда попадает в родной городок российского Нечерноземья во время школьных каникул. Дождались наконец. Вадим назвал своего героя, отделил его от себя. Отделил ли? Имя-то дал условное, просто чтобы назвать. Прохор Артёмович, Прошка — как-то без воображения, неловко. Сейчас так величают разве что в глухой деревне. В городе Прошка звучит насмешливо. И опять размышляю над тем, что он хотел выразить своей историей. Зачем делал вид, будто пишет не о себе, хотя очевидно обратное? Чужие, возможно, ему поверят. Студенческие годы закончились, а скудость быта не спешила никуда деваться. Надо было добиваться достойного жилья — что за жизнь в заводском общежитии! Вадим считал: раз он хорошо работает, то остальное ему должны поднести на блюдечке. Мечтатель! Ради всякой мелочи я обивала начальственные пороги, нервничала, искала нужных людей и подходы к ним. Он глядел на меня с осуждением и все больше замыкался в своих Черчиллях, Виндзорах, Екатеринах Великих. Древнерусские мечи и кольчуги его еще больше интересовали, да разве походами в музеи дети будут сыты? Мне было больно сознавать, что в одиночку забочусь о семье, но я надеялась, что рано или поздно муж прозреет. У нас с ним бывали и замечательные минуты, я вспоминаю их, и губы растягиваются в улыбке — несмотря ни на что. ... Вот я, почти еще девочка, варю свою первую курицу, не очистив ее от потрохов, понимаю — испортила, а он ест и нахваливает. ... Ведет меня в роддом — от нашего жилья в двух кварталах. Спотыкаюсь, он подхватывает, и я чувствую, как дрожат от напряжения его бережные руки. ... Дочка заболела, ей всего семь лет, шпарит температура — лекарства не помогают. И скорая опаздывает. Теряюсь, плачу. А он вспоминает, что в соседнем доме, возможно, живет врач и бежит за ним... В мгновения особого риска, на границе жизни и смерти, я была уверена в его любви. Но мгновения эти проносились быстро, и сердце опять полнилось тревогой. Шли годы, я начала забывать парня с монетой-выдрёнышем, пляшущей между фалангами пальцев. Чувствовала себя стареющей женщиной в постоянных заботах о муже, детях, в житейских неурядицах. Вадим прятался от жизни в абстрактной мути. Спасался в ней от обязательств перед семьей. Друзья для него всегда были важнее меня. Они говорили об умном, мечтали о высоком... А я... я обеспечивала материализацию возможности мечтать. И только однажды... Когда развод стоял на пороге... — Эй, ты! — крикнул он кривляющейся амальгаме. — Какого чёрта! Ты не можешь изменить даже свою примитивную внешность! Кто ты такой, в конце концов? Усталый странник на завершающем этапе пути? Да, полно... Обычный меркантильный индивид, каких много по обе стороны океана. Только пытаешься выглядеть красиво и бескорыстно. А это ещё больший грех, чем быть записным грешником, не задумываясь о том. И как ты можешь сетовать, что тебя бросили? Ты кто, Эйнштейн? Или, на худой конец, Пикассо? Но ведь и этим гениям женщины предпочитали узколобых самцов с накачанными мышцами таза. И какое же право имеешь ты жаловаться? Смотрел на себя в зеркало... хотя бы чаще, чем бреешься? Так вот как! Ты и бреешься очень редко. Хорошо, взгляни на свое отражение. Что видишь, изгой? Этот невнятный сгусток протоплазмы есть ты. Как себе думаешь, может ли недоразумение имени твоего отсталого детства на что-то рассчитывать? На что-то такое, от чего будет не стыдно... не умирать до глубокой старости? Вот видишь, всё узнаваемо. Всё проходит... не так и не тогда, как предполагал премудрый Соломон. Ты видел его кольцо? Ах, ты даже не знаешь, что сей знаменитый перстень был найден.... Где? Где он найден? Чёрт меня возьми совсем! Стой, нервничать нет смысла... Тебя бросили. Ты далеко не юн, ты должен смириться. Золото не липнет к бессребреникам. Ты ждал иного? Видишь, как всё просто. Ты остался один, и она осталась... не думаю, что одна. И что? И зачем теперь думать о неотвратимом? Всё же было ясно и раньше. Господи, она же не могла остаться с тобой навсегда. Ты совсем не умеешь писать, всего только обозначаешь своё присутствие в тексте. А этого мало. Так что и беллетрист из тебя не вышел. Неудачник... Да, неудачник. Но не боюсь и не скрываю этого. Только дурак боится признаться, что он далеко не так умён, как бы того хотелось. Ну и что, если получается многомудро рассуждать о всякого рода понятиях. О жизни, о королях... прости меня, О'Генри, Уильям Сидни Портер... Простите меня все вместе. Да-да, поток сознания. Кому это нынче понравится, если ты не в силах порвать кожу зубовным скрежетом и писать артериальным беспределом по вековым обоям, засиженным клопами из созвездия тех самых, не к ночи помянутых, Габсбургских паразитов времён влияния и роскошества? Самовнушённого, большею частью, влияния и попугайского роскошества. Помню, ты говорила... Прими в награду поцелуй воздушный... Он у тебя такой воздушный, что аж закладывает уши... И всё. И любви нет, и не нужна она... вовсе... Только я и Высший Разум... Зачем ещё кто-то? Между нами. Не люблю, когда посредники... даже в этот чёртов четверг. Шутка. Такая нелепая. Нелепей, чем пижама из советского санатория времён торжества ВЦСПС. Теперь не ПэЭс, теперь ПиСи. Теперь шлюзы для SQL-серверов... а раньше — для перемещения из какого-нибудь русла в очередное рукотворное водохранилище. Из одной трубы вливается, из другой выливается. Ферштейн? Вот именно! Как это будет по-французски? Парле ву? Будто марлю, просоленную солёными Бретонскими ветрами, порвали неосторожным движением локтя. Парле ву... Парле? Ву? Вот видите, все остались при своих. Но душа-то снова, чёрт возьми, не на месте. И где взять того успокоительного...
Когда-то я ушла от него, потому что не могла больше жить на этом пепелище вулкана, изработанного до состояния пемзы. Но и уйдя, осталась на пепелище. Вопреки желаниям и надеждам пепелище — наша общая судьба. Ощущала ли я приближение разрыва? Думаю, необратимые изменения чувств начались после потери нашего талисмана — серебряного рубля. Подумаешь, одноклассница попросила помочь. Почему он должен был отобрать у семьи реликвию ради сомнительной болезни ее сына? Наши дети здоровы, потому что я защищала их интересы вопреки всем и всему. Вадим не хотел знать, какова цена нашего благополучия. Ему казалось — само собой получается, и надо помогать другим, потому что им хуже. Не признавал, что здоровье дорого стоит, что надо хорошо питаться, носить удобную одежду, жить в человеческих условиях, ездить на курорты. Слишком многого я была лишена в детстве, чтобы позволить ему оставить наших детей без необходимого. Мне жаль того неизвестного мальчика, сына его одноклассницы, если он действительно был болен, но разве мы вправе жертвовать близкими, чтобы помочь чужим? Какой описал он меня в своих заметках? Признал, что любила, но обвинил в планах с норковым отливом. Смеюсь и плачу, читая эту белиберду. Разве женщине есть дело до норки, когда не хватает постельного белья и хорошей посуды? Почти пять лет мечтала о стиральной машине, и только потом приобрела импортную. Соседки завидовали. Он посмотрел и спросил: — Зачем тебе такая огромная? — А почему должна быть маленькая?! — возмутилась я. Он махнул на меня рукой, как на дурочку, и опять ушел в свою библиотеку. Думаю, наш большой разлад вырос из маленького, но принципиального расхождения: я принимала жизнь, какая она есть, он же требовал от судьбы невозможного, не соглашался со временем. Он был бессребреником и этим делал меня алчной. Таков закон природного равновесия, который мало кто понимает.
Театр закрыл занавес. Собственно, не сам театр, а его служащие. Всё кончилось благополучно. Мир не рухнул. Ещё одной коллекцией стало меньше, коллекцией самоедских заблуждений. Думаю, не жалко...
Завтра соберемся с детьми и помянем Вадима. С серебряным рублем или без него, но я мужа любила. А он? Может, так мало писал обо мне, потому что боялся вспоминать? Странно, но и сейчас — после его ухода и, возможно, на пороге своего собственного — я продолжаю волноваться, когда думаю о его чувствах к себе. Что в нас было неправильного? Почему счастье оказалось хрупким, а потребность в нем разрушительной? И почему девочкой я была робкой, а с возрастом превратилась в… танк или бронетранспортер? Неужели Екатерина Великая мечтала в юности о любви, а не о царственном величии? Грустной получилась наша с Вадимом история, но таковы инь и ян двадцать первого века.
P. S.
День стоял замечательный. Поколебавшись, Дима махнул рукой на занятия и направился в парк. Одна лекция — это такая малость, а красота уходящей натуры не повторится уже никогда. Ее можно только запомнить. Глаза углядели на земле почти неприметное пятнышко. Листья осени чуть прикрывали матовое серебро аверса, похожее на седину надвигающейся зимы. Дима дотронулся до начавшего темнеть металлического кругляка, поднял его и неожиданно почувствовал исходящее от монеты тепло. Неужели предмет магический? Мороз по коже! Посмотрел на женский профиль: интересная тётка в буклях, кто такая? Наверное, императрица, — пришло в голову. Чей еще профиль могли отчеканить на серебряном рубле? Надо глянуть в Сети, поспрашивать на форуме нумизматов. Серебряный рубль казался вытертым многократными ласкающими движениями пальцев. И не просто пальцев, а всей пятерни, включая ладонь. Некоторая шершавость не вызывала неприятия. Будто человек, когда-то державший в руках этот кусок формованного серебра, был близок Диме. Нет, не по генетическому коду — на уровне подсознательного. Как этот рубль попал в парк? Случайно обронили или выбросили намеренно, разве теперь узнаешь? Дима подбросил серебряную монету в воздух. Потом ловко поймал её, будто репетировал это движение очень долго, и зашагал по асфальтовой дорожке на улицу, к автобусной остановке. Впереди его ждали посиделки с институтскими друзьями, свидание с девушкой. Терпкий вкус только початой, пьянящей возможностями жизни коллекционера...
стр:
|
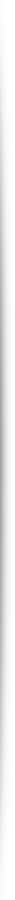
|