


|
Вернуться
Комментарии Философская проза жизни Повесть написана на грузинском материале и Грузии посвящается.
1 Имя покойного – Бадри, писалось в объявлении. Бадри, бедный мой Бадри… Какой там был номер дома? Неужели потеряла газету?.. Совсем плоха голова! Старуха завернула в подворотню, пересекла двор. Наверное, дальше по лестнице: по ней вереницей поднимаются люди. Можно не сомневаться, они на панихиду. Надломленные спины рабов. Полусогнутые, словно в изъявлении покорности, ноги. Владычица-смерть заглотнула их брата и, надеются они, насытилась. Но владыки на то и владыки – обладают завидным аппетитом. И каждый содрогается, поймав на себе ее алчущий взгляд. Идущие впереди замедлили шаг, сзади напирают. Последняя схватка на пороге небытия. А впрочем кто знает, последняя ли. Старухи не было бы здесь, если б все кончалось опусканием гроба в могилу. Ее не было бы на этой панихиде и не было бы на земле. Старуха обошла вокруг гроба, положила на белый шелк букетик фиалок, наклонилась. В нос ей ударил тяжелый дух смерти, она поднесла платок к глазам и всхлипнула. Человек не должен удалиться в землю неоплаканным, знала она. Даже если молча сидит у гроба жена, если не открывают рта дочь и невестка. Печален удел уходящего в тишине: чудится ему, будто люди забудут его, едва проводив до могилы. А эти… женщины под фотографией на черном бархате – жена, дочь, невестка… они устало глядят на гроб и только кивают в ответ на соболезнования. Старуха поднесла руки к черной шали на своей голове, опустила шаль на лицо. - На кого ты покинул нас, Бадри? – начала она негромко. – Полон горя этот мир, и ты добавил, Бадри! Разве обидела тебя жена, разве предал друг, Бадри? Постыдись оставлять беззащитных сирот, бесталанный мой Бадри!.. Голос ее постепенно крепнул, становился увереннее. Тело покачивалось в такт причитаниям. Легкая шаль касалась щек, иногда прилегала к губам – и тогда ткань проваливалась страшной зияющей ямой. - Если встретишь там сына моего Гогиту, Бадри, передай, что плохо без него матери, Бадри! Возвращайтесь вдвоем или возьмите меня, посланник мой Бадри! Босиком побегу по острым камням, только кликните, Бадри! Голова старухи клонилась все ниже, коснулась гроба; подбитой птицей опустилась на белый шелк черная шаль. Женщины под фотографией переглядывались в недоумении: кто это? твоя знакомая? и не моя тоже. А люди продолжали идти, жена, дочь, невестка все кивали и кивали в ответ на соболезнования, не понимая для чего, запоминали, кто из приятелей явился, а кто нет. Они не разбирали слов, которые выплакивала у гроба старуха, но от обрывов мелодии причитаний у них холодели ноги, и им хотелось кричать, кричать, кричать… - Ты спеши – передай, я проверю, Бадри! И в аду найду, не скроешься, Бадри! Вставай, вставай всем на радость, ты здесь нужен, Бадри! Уступи мне место, родимый мой Бадри! Наконец сын покойного, поймав на себе страдальческий взгляд матери, подошел к старухе, взял ее под локоть и тихо сказал: - Давайте я провожу вас на свежий воздух… - Не надо меня провожать, у меня не надломленная спина! – старуха покачнулась и повисла у него на руке.
- А-а-а… - плакала жена покойного. – А-а-а… Ему зубы вытащили, а мост поставить не успели… - Не надо так убиваться, Нунушка, - отозвалась сослуживица, оттеснила от нее дочь и обняла. – Никто ему в рот не заглядывает. Ты сильная. Крепись! - Всего четыре дня болезни, всего четыре дня… Видишь, и тут он меня обманул: умер, а я одна… - Крепись, Нунушка, крепись. - Я ждала эту старуху! Помнишь, у него была старуха до рождения Иринэ’? - О чем ты, Нунушка? Опомнись! - Ее на нашу постель положили… Старуха лежала в это время на горе матрасов, под которыми не видно было кровати, и безучастно смотрела, как зажатый между двумя шкафами врач скорой помощи роется в ее сумочке. Он искал документы, но в сумочке не находилось ничего, кроме газеты с траурным объявлением, ключа и кошелька с мелочью. Врач разочарованно крякнул, вручил сумочку кому-то из толпившихся на пороге родственников хозяев дома и начал на весу заполнять бумаги. Прекратив писать, он наклонился над старухой, пощупал ей пульс и спросил: - Фамилия?.. Ваша фамилия?.. Старуха обожгла его ненавидящим взглядом и закрыла глаза.
2
Неделю после похорон Нуну суетливо действовала: размазывая по лицу слезы, выпрашивала у очередного начальственного лица гранит для памятника, гоняла сына от художника к художнику, ругалась с кладбищенской прислугой. Потом она вдруг обессилела – как будто ходила по льду, а он обломился. На работе ей оформили отпуск, поток визитеров шел на убыль. Только на то и хватало ее теперь, чтобы приготовить из принесенных сыном продуктов обед для дочери и вновь оцепенеть в своем углу. - Поешь, мамочка, а то и я обедать не буду! – упрашивала Иринэ. Нуну через силу пыталась проглотить кашу, но ее начинало тошнить, и она отворачивалась от тарелки. - Что мне делать?! – восклицала в телефонную трубку Иринэ. – Она сгорает!.. как папа!.. приезжайте!.. Может, врача позвать? Неожиданно настигали сумерки. Темнота, как земная утроба, поглощала шкафы, стулья, пестроту занавесок на окнах и оставляла Нуну наедине с тишиной. Особой тишиной, глубокой и темной, когда нечем прикрыть сердечную наготу и пальцы сводит от ненависти к себе. В страхе перед тишиной Нуну требовала, чтобы дочь постоянно находилась при ней, даже телевизор забрала в спальню, удерживая Иринэ рядом. Но иногда и присутствие дочери не защищало ее от сумерек. Нуну посылала Иринэ включить люстру и бра, закрыть дверь на террасу. Легче не становилось: сумерки надвигались не снаружи, а изнутри ее души. Нуну чувствовала их мягкое шевеление где-то под ребрами и замирала в ужасе: ведь стоит чуть-чуть ослабеть, и непреодолимая сила доберется до горла, сожмет его, лишит дыхания… Иринэ удобно полулежала в кресле перед беззвучно орущим телевизором – звук она отключала, чтобы соседи не услышали и не обвинили ее в нарушении траура. И из-за таинственности и преступности беззвучного вопля Нуну казалось, будто на экране показывают метания ее сердца, а дочь наблюдает за ними, как за рыбкой в стеклянном аквариуме. - Попробуй проживи тридцать лет с мужем! – хотелось крикнуть Нуну. – Заслужи право наслаждаться материнскими страданиями! Ты видела на панихиде эту старуху, ты видела?! И Иринэ каким-то чувством улавливала непроизнесенный упрек, отворачивалась от телевизора и бежала к матери. Нуну гладила ее жесткие волосы, касалась нежной кожи и удивлялась, что могут сосуществовать вместе такое жесткое и такое нежное. И еще удивлялась она, что могут сосуществовать вместе Иринэ, тридцать лет жизни с Бадри, она сама, непохожая на себя тридцать лет назад, Дато, ее первенец, особенный, отличный от родственников и в двадцать девять лет почти старый. И она не находила слов, чтобы выразить горе, переполнявшее ее.
Раньше жизнь казалась Нуну плоской, как изображение на экране телевизора. В домоуправлении, где она работает паспортисткой, эта плоскость кричаще выставляется напоказ. Вынеси Нуну свою историю на обсуждение сослуживиц, от нее мигом отсекли бы лишнее и подвели однозначный итог: поймала, мол, девочка без образования дипломированного специалиста с квартирой в центре города. Квартира, правда, с общими удобствами, но кто в начале пятидесятых мог претендовать на удобства собственные? Специалист благоустроил, в конце концов, квартиру, сделал отдельный выход, пристроил уборную и душ. А центр – это все-таки центр. И сослуживицы восхитились бы деловыми качествами Нуну и осудили бы ее за деловые качества: пролаза, мол. И в их отношении к ней появились бы нотка настороженности и нотка уважения, но, по большому счету, ничего между ними не изменилось бы: они принимают друг друга любыми, иначе по многу лет бок о бок не поработаешь. Да и похожи они одна на другую гораздо больше, чем Иринэ на Дато. А мама считает, что Нуну могла сделать лучшую партию. Она не прощает ей единственного ее самостоятельного решения и пеняла до последнего дня Бадри, дня, когда из больницы привезли его тело и старшая сестра Нуну на время забрала маму к себе. Мама шесть лет до того жила под крышей нелюбимого зятя и ела его хлеб. С мамой все понятно – амбиции. Но и беспристрастные сослуживицы могли сказать о Нуну только ложь, потому что не ловила она Бадри и о квартире его не мечтала. Ни о чем подобном не мечтала Нуну в двадцать один год. Все случилось помимо нее, она оказалась свидетелем, а не участником своей жизни. Такого в домоуправлении не понимают, и она не поняла бы, если Бадри так подло не умер бы раньше нее… Бадри впервые увидел ее на студенческой вечеринке и поразился бледности ее тонкого лица, невозмутимости светлокарих глаз и пушистой золотой косе до пояса. Незнакомка так не походила на бесстыдно хохотавших вокруг девиц с крикливой помадой на губах и выщипанными бровями… Через несколько дней он попытался поцеловать ее, но она выскользнула из его рук и сказала, как учила ее мать: - Или ты будешь вести себя прилично, или нам незачем больше встречаться. Он обиделся и решил забыть ее. Но чем тщательнее он изгонял мысли о ней, тем настойчивее они возвращались, и тем тоскливее было у него на душе. Однажды он решил посмотреть на нее издали. Нуну шла по улице одна. Точеная фигурка в темном строгом платье. Чистый лоб сиял безмятежностью, на груди лежала золотая коса… Он шагнул к ней из кустов и срывающимся голосом выкрикнул: - Будь моей женой! Она остановилась, на секунду замешкалась и ответила вопреки материнским советам: - Да.
В полночь Иринэ уходила спать. Потухший экран телевизора не мог уже разболтать секреты Нуну, но это было еще страшнее: голодными волками воют запертые в душе секреты, воют от предчувствия, что со временем никто не станет интересоваться ими. После рождения сына Нуну нездоровилось. Бадри пришел с работы раньше обычного, выкупал малыша и присел на постель жены. - Уложим Дато и выйдем на полчасика погулять. - Мне плохо! – отозвалась Нуну раздраженно. - До пенсии заживет! – засмеялся он. Все тело ломит, голова болит, а ему только бы посмеяться! Нуну обиженно отвернулась к стене. Что ему до ее самочувствия, он-то сам здоров! - Вставай! Вставай! – тянул ее за плечо Бадри. – Чем больше валяешься – тем сильнее раскисаешь! Она сделала вид, что не слышит. - Вставай, симулянтка! – он сдернул с нее одеяло. От бессилия и униженности Нуну разрыдалась. «Время рассудило вас… - нашептывала Нуну тишина. – Ты болела, но жива, жива, а он, здоровый, умер… Ты плакала втихомолку, что дети твои окажутся сиротами при злой мачехе… Ты мстила Бадри за эту мачеху, а он умер раньше… Жертва – не ты, жертва – он…» - Я не хотела! – стонала Нуну. – Я не хотела! Так вышло! Дато дорос до яслей, Нуну устроилась в домоуправление и каждый день после того выслушивала истории о грубости, толстокожести мужчин, об изменах их и предательствах. Бадри – один из многих и поступает, как они, успокаивала себя Нуну, но не могла совместить в мыслях теплого, в любую минуту разного Бадри, ее Бадри, и холодное абстрактное «они». О, если б Нуну умела стать к нему равнодушной! Не было бы слез, не было бы бесконечных часов, когда лежала она между жизнью и смертью, вслушиваясь в глубокое, здоровое дыхание спящего Бадри. Похоронит он ее, женится вторично… Какая же несчастливая выпала ей судьба! День ото дня Бадри все меньше шутил, все чаще задерживался на работе, уезжал в командировки. Иногда у него были ночные дежурства. Видя его, входящего в дом, Нуну доставала из кармашка халатика валидол. Бадри морщился и отворачивался. Нуну жаловалась на мужа сослуживицам и утешалась их сочувствием: чем терпеть бессердечие Бадри, она лучше покончила бы с собой, но жаль сына. И сослуживицы качали головами, варили на электроплитке горький кофе, заглядывали в чашку и выносили на разные голоса один и тот же приговор: любовница, во всем виновата любовница. Нуну начала бегать по бабкам. Бабки требовали то подушек, то пальто, вскрывали швы и доставали из утопленных в перьях и складках тайников всякую чертовщину. Они колдовали над свечами и вымогали деньги, зашивали в тряпицы молитвы, ругали Нуну за доверчивость и учили избавляться от подруг. А Бадри, несмотря ни на что, уже почти не улыбался дома: только если Дато тянул его на прогулку. Он, как и прежде, ездил в командировки, дежурил по ночам. Гадалки продолжали твердить о любовнице, и совсем спавшая с лица Нуну плакала, представляя, как умрет она, появится у Дато мачеха… Как стыдно и больно быть оставленной, разлюбленной, никому не нужной! Дато стукнуло десять, когда мать явилась к Нуну и сообщила, что встретила Бадри в чужом доме, да еще с женщиной на добрый десяток лет старше его. Со старухой связался! Нуну разрыдалась, закричала, что выследит и опозорит его, а мать закрыла поплотнее двери и окна, развалилась на стуле – ни дать ни взять кумушка, наслаждающаяся на веранде весенним утром и сплетнями, - и принялась с интересом за ней наблюдать. - Ты кончила? – спросила она после того, как Нуну, обессилев, затихла. – Теперь моя очередь. Она подошла к Нуну совсем близко, так что за ее длинным костлявым телом скрылась комната. - Ты с детства дура - в школе не хотела учиться, потом выскочила за смазливого мальчишку без всякого положения, да и с мальчишкой справиться не умеешь, а еще называешь себя женщиной! Кто когда вернул мужа истериками?! От уверенного материнского голоса по плечам и ногам Нуну заструилась приятная слабость, захотелось спать: все уладится само собой, мама сделает невозможное, мама выручит… Нуну последний раз всхлипнула и сказала, как неизменно говорила в неразрешимых, запутанных ситуациях: - Ты умная, посоветуй… Мать выпрямилась и тоном полководца произнесла: - Ты родишь ему второго ребенка. Девочку. Отцы сильнее привязываются к дочерям. Она не сомневалась, что приказ будет исполнен в точности.
Так появилась на свет Иринэ, но исчезла ли из жизни Бадри старуха? Бадри души не чаял в дочери, но… Иринэ ползала по самодельному манежу. Дато играл во дворе. Бадри посадил Нуну перед собой и спросил: - За что ты меня ненавидишь? - За что ты унижаешь меня?- ответила она вопросом на вопрос. - Не лучше ли нам расстаться? - Не можешь дотерпеть, пока я подохну? Он встал и вышел на улицу и никогда больше не заводил речь о разводе. «Притаился и ждет! – злилась Нуну. – Точно хищный зверь в засаде.» Как мог он умереть раньше?!
Правду об их с Бадри жизни несла в себе старуха. Нуну разузнала, в какую больницу ее поместили, однажды она даже решилась навестить соперницу, дошла до палаты и повернула обратно. Через две недели старуху выписали. В регистрационном журнале остался адрес. Нуну сунула медсестре трешку и завладела журналом. Она долго разбирала корявые знаки, складывавшиеся в имя и фамилию, запоминала улицу, номер дома, квартиру. Этот район она знает. Современные трущобы. Да еще надо взбираться в гору. Медсестра испуганно оглядывалась по сторонам, под конец она не выдержала – выхватила у Нуну журнал и спрятала в стол. Нуну смотрела и не видела ее. Корявые буквы остались отпечатанными на сетчатке и ложились поверх лиц и предметов. Почему, почему ей надо сводить счеты с Бадри? За день до смерти он держал ее за руку, благодарно улыбался, радуясь стакану воды, извинялся, что надо вынести судно. И когда его увозили в реанимацию, он не обвинял ее. Он только не дождался ее конца - умер раньше. И это было хуже любых обвинений, потому что случилось в реальности и не может быть опровергнуто никакими доводами. Разве поспоришь с бумажкой, на которой значится «Свидетельство о смерти» и стоит гербовая печать?
Иринэ, мне плохо! Проснись, Иринэ! Ни стука каблуков, ни шелеста платья, ни живого дыхания… - Он изменял мне, пока я безуспешно лечилась у врачей! – плачет Нуну, но никто не слышит ее. Потом она смотрит в темный провал потолка и вызывает в себе воспоминания об их с Бадри счастливых днях. Но счастливые дни не хотят возвращаться, они выцвели, потеряли четкие очертания, как погруженное в холодный туман ущелье. - Какие у тебя точеные брови, красавица… и ресницы длинные и пушистые… Коса… в жизни не касался такого теплого золота… будто шелковая… а как она пахнет, с ума сойти… неужели сама не чувствуешь?.. если буду умирать, отрежь и положи ко мне в гроб… - Я тебе нравлюсь больше других женщин?
В доме в непрестижном районе спокойно спит старуха. Интересно, помнит ли она слова, которые говорил ей Бадри? Помнит ли она, как он затихал, насладившись любовью? И становился беззащитным, не ведающим греха… Я ненавижу тебя, старуха, последняя моя надежда на оправдание! Я выцарапала бы тебе глаза – они нравились ему, наверное, также как мои! Я вырвала бы твои волосы – с ними он, наверное, готов был принять смерть! Но прежде я заставила бы тебя говорить! Ты рассказала бы Иринэ, как вы с моим любимым мечтали избавиться от меня, как репетировала ты роль мачехи… И когда Иринэ заплачет и потянется ко мне своими нежными ручками, неотличимыми от рук Бадри, только поменьше, и когда она поймет великое страдание мое, я почувствую, что победила. Я победила тебя и Бадри, и маму, и моего недотепу отца, не замечавшего меня, пока мама не прикажет ему отругать меня или сводить куда-нибудь… В схватке с тобой я обрету полный голос – и меня услышат. Люди поймут, что я есть и никто не в праве занять мое место. Ослабнет страх исчезновения моего «я» и страх, что исчезновение никогда не наступит. Тогда я найду в себе силы нести свой крест дальше. Горе мое, Бадри, и в победе ты надсмеешься надо мной!
3
Обычная пятиэтажка. Вонючий подъезд с засиженными мухами стенами. Однокомнатная квартира на пятом этаже. Возможно, Бадри поднимался сюда, ждал около двери с облезшей краской, морщился от запаха гниющего во дворе мусора. И его не коробили грязь и убожество этого места? Старуха появилась на пороге вся в черном. Даже шаль - и та на голове. Прямые негнущиеся плечи. Бесстрастное, чуть высокомерное лицо. Она или не она, не понимает Нуну. В квартире чисто. Заметно по коридору. Дальше пока не пускает. Молчать стало неприлично, Нуну тронула Иринэ за рукав. - Как здоровье? – угрюмо спросила Иринэ, оглянувшись на мать. – Оклемались или еще барахлите? Старуха не ответила, она удивленно приподняла брови, скривила рот в какой-то странной – то ли презрительной, то ли мученической усмешке и перевела взгляд с Иринэ на Нуну. Она не узнавала гостей. - Я дочь Бадри, - напомнила Иринэ и смущенно переступила с ноги на ногу. – А это моя мамуля. Вы произвели на нас неизгладимое впечатление! Старуха приподняла белые брови еще выше и, как показалось Нуну, наигранно спросила: - Чья дочь?
«Они все-таки пришли, жена и дочь покойного», - удовлетворенно подумала старуха. Она знала, что разбудит их, а иначе, зачем надрывать сердце, причитая перед рабами? Зачем отказываться от имени и даже в мыслях называть себя старухой, если Бог не покарал тебя миссией спасать потерянных? Зачем пятидесятидевятилетней выглядеть на семьдесят, но не останавливать дыхание, просыпаться по утрам? Они рабыни, эти женщины на пороге ее дома. В слабости своей рабыни подменили необременительным долгом являться тяжкий долг оплакивать и облегчать. Мало кому по плечу путь, по которому идет к тебе мать, Гогита! Она провела гостей на кухню и замерла, наблюдая, какое впечатление производит на них суровость ее быта. Старуха - отшельница среди людей. К этому надо привыкнуть.
Иринэ нашла кухню сырой и неуютной. Уродливые потеки на потолке и стенах. Дверь на балкон без занавесей и карниза. Рядом с дверью газовая плита, на ней горшок со столетником. От удивления Иринэ зажмурилась. Открыла глаза – действительно, газовая плита со столетником. Как же на ней готовят? Может, старуха, следуя моде, занимается сыроядением? Не похоже, по одежде она консерватор. Иринэ покосилась на мать – мамуля стояла сама не своя, вялая, безликая, похожая на скомканную салфетку. «Старуха, конечно, безобидна, она даже смешна со своим задранным носом и плохо зашитой дыркой на левом чулке, - думала Иринэ, - но мамуля ее боится. А раз мамуля ее боится, она может быть опасна…» Осторожнее с выводами! После папиной смерти мамуля всего боится! Иринэ не почувствовала горя, когда умер отец. Внутри ощущались только пустота и недоумение: разве так бывает? Она росла маминой дочкой, отец был для нее подобием машины для печатания денег – когда ни хватишься, мама отвечает: «Зарабатывает деньги». Иринэ понимала, что она должна чувствовать себя несчастной. Она силой заставляла себя вспоминать: папа возил нас за город, папа прощался со мной в больнице, и выдавливала из себя слезы, но было нечто порочное в том, как она это делала. И вдруг сейчас, у незнакомой старухи, которой боялась мама, Иринэ осознала по-настоящему, что отец умер и что между нею и миром нет больше мужчины-защитника. Небольшой ветерок – и понесет ее по земле, как растение с вырванным корнем…
- Присаживайтесь, - сухо пригласила хозяйка и извлекла из угла две табуретки. Сама она опустилась на низкую некрашеную скамеечку – такую бабушка Иринэ кладет под ноги – и застыла сгорбленная, жалкая. Зачем она так? Иринэ стало стыдно смотреть на униженную старуху. Она подняла глаза выше и увидела за балконной дверью карликовое деревце. Листочки его мелко дрожали, тоненькие веточки торчали в разные стороны, точь-в-точь косички у первоклассницы. Иринэ представила, как холодно там, на балконе, - сегодня с утра шел дождь, Иринэ даже резиновые сапоги одела. У девушки совсем испортилось настроение. Мама кашлянула, давая понять, что пора завязывать беседу, кашлянула еще раз и грозно поглядела на дочь, а Иринэ все не могла оторваться от деревца. «Ну и стерва эта старуха, - думала Иринэ. – Мамуля, та хоть совсем цветов не заводит, раз от них плодятся мошки и вода проливается на паркет, а эта дрянь выкинула домашнее растение на улицу…» - От вашего дерева плодятся мошки? – с вызовом спросила она. - Ну и что? – отозвалась старуха. – Гогите они не мешают. - На балконе совсем не то, что в комнате, - согласилась Нуну. – На балконе даже собаку держать можно. Иринэ фыркнула от злости. Ей было жалко собаку, которую можно держать на балконе, но папу было еще жальче: он что-то хотел объяснить Иринэ в последнюю их встречу в больнице, а она твердила: «Дома поговорим, тебе нервничать вредно!» и не слушала его.
Старуха поднялась со скамеечки и опять сделалась высокомерная и суровая. - Вы плохо плакали на панихиде! – начала она тоном обвинителя на суде. – Бадри замерз от вашего равнодушия и черствости, лишь мой голос утешал его!.. У Нуну комната заплясала перед глазами. Признается! Сама признается в связи с Бадри! А сначала изображала, будто и вовсе не слышала о нем! Но тут же все ее существо восстало против возможности соединения Бадри, ее Бадри, с этой… Даже слова подходящего не найти… Да он на нее и не взглянул бы! Нет, не могло быть между ними общего!.. Лгунья! Дрянь! Ничтожество!.. Иринэ слушала старуху и ничего не понимала. Может, мамуля придумала дочери такое наказание за ее вину перед папой? Может, мамуля так намекает, что место Иринэ в сумасшедшем доме? Какая-то черная ворона устраивает перед ними представление в стиле фильма ужасов, а мамуля кивает головой и скалится в улыбке. Бабушка, та хоть только отношения с поклонниками желает регулировать, а чужая старуха за вселенские проблемы взялась! Иринэ подождала минуту, но мать также неестественно улыбалась, руки ее бесцельно шарили по юбке – как она изменилась после папиной смерти! – и Иринэ решила взять инициативу на себя. - Я вам не детсадовка, меня от лекций тошнит! Я на первом курсе учусь! Черная ворона отреагировала на вызов совсем не так, как она ожидала. - Девочка моя, а он не дожил! – лицо старухи обмякло, глаза подернулись влагой. Нуну не верила своим ушам. Еще одно бесспорное доказательство! Соперница готова исповедаться. Пусть Иринэ послушает, что творили с ее матерью долгие годы! - Не верится, но Гогите уже тридцать четыре… - начала о чем-то старуха, но нетерпеливая Нуну вернула ее к теме разговора. - Бадри нарадоваться на нее не мог… - сказала она вкрадчиво. И добавила: - Он ради нее любовью пожертвовал. - Правда?! – потряслась Иринэ. – Папа – и любовь! В стариковском возрасте! Дело было испорчено. Лицо старухи вновь окаменело. Словно сидели они на одном плоту, а течение возьми и растащи его на бревна.
Она или не она? Нуну хотела и не могла верить, что Бадри бывал на этой убогой кухне, целовал эти чудовищные губы, будто скрюченные в судороге, бескровные… Правда, с тех пор прошло восемнадцать лет, но как унизительно сознавать, что тебе предпочли такую женщину! - Это вам… - Нуну наконец взяла себя в руки, она поискала глазами стол и не нашла его. – Можно положить лимоны на плиту? - Я не ем лимонов! – в голосе старухи проклюнулось ехидство. - Тогда яблоки… - Я ничего, кроме хлеба, не ем! У Нуну скрутило спазмом солнечное сплетение. Видела она таких – посещают домоуправление. Отхватят за счет любовников хоромы и воображают, что умнее них и нет никого. Честная женщина для них прислуга, черная кость! - А я люблю пи-и-ро-о-ж-ные! – насмешливо протянула Иринэ, заставляя себя не думать о папе. – Когда устроюсь на работу, буду брать взятки пирожными! - И Гогита любит пирожные, - согласилась старуха. «Она открыто заигрывает с Иринэ и хамит мне, - думала Нуну, растягивая губы в очередной улыбке. – Ехидна!.. Если б не бессонные ночи, я выцарапала бы тебе глаза и выдрала бы волосы… Если б не бессонные ночи… Ты еще не рассказала Иринэ, и я терплю… Пользуйся, пока я завишу от тебя, ехидна, но потом не взыщи!» - У вас большое горе? – спросила она деревянным голосом. - У каждого свое горе, - отрезала старуха. - Я думала, мы поплачем вместе… Старуха посмотрела ей в лицо и отвернулась. - Разве вы умеете плакать? – произнесла она наконец. - В память о бедном Бадри… И вдруг из-под надгробного камня наступившей тишины по капле просочились рыдания. - Я… перед… папой… виновата… - бормотала Иринэ и терла узкими ладошками повинные глаза.
4
Ушли. Девочка растрогалась, расплакалась, и мать увела ее. Дети чувствуют сильнее взрослых, чувствуют без разума, но творят добро, а матери… Кто сказал, что Христа сначала предал Иуда? Христа сначала предала мать – иначе не бывает. Первое предательство всегда материнское, только после него мир хватает головку ребенка железными зубами и жует, сосет, месит… Божья матерь Мария не заметила, как предала Христа. Она думала, что лучше своих малышей ведает об их предназначении, она вела их к избранной цели, суетилась, готовя еду, перешивая со старших на младших. А единственный из ее сыновей, осознавший себя Христом и потому осужденный на одиночество, так и не дождался материнского благословения… Очнулась Божья матерь, побежала по земле, выкликая непокорное дитятко, а дитятко, вот оно – на кресте, и поздно благословлять и верить в него – время оплакивать… Нет, Мария не предавала сына, – ошиблась старуха. Если б Мария предала сына, он не воскрес бы из мертвых – преданные матерями не воскреснут вовек. Просто Мария на мгновение наклонилась к одному, а другой… Где ты, родимый? Где ты, истерзанный? Старуха отперла дверь на балкон, пригладила веточки карликового деревца, потрогала землю, в которой оно росло. - Они предлагают мне плакать вместе! – произнесла она сердито. – Будто они умеют плакать! Будто они представляют, что такое плакать! Только младенцы плачут, не желая никому зла!
В очереди в сберкассу, где она получает пенсию, одна из таких – с надломленными спинами – жаловалась на невестку, не дающую ей продыху своими претензиями. Старуха слушала ее и полнилась возмущением: жертвы не злобствуют, они сгорают без упрека, все остальные – рабы. - Лишь рабы становятся тиранами, лишь рабы ненавидят тиранов, - сказала она этой утке, выставляющей напоказ утиное нутро. – Свободные свободны всегда, им нет нужды взывать о пощаде. Тиран, унижая их, разбивается, как о твердыню. То-то было крику! А с невесткой, видите ли, она ягненок!
Старуха вернулась на кухню и села на низкую некрашеную скамеечку. Давным-давно привезла она ее в город из отчего дома: скамеечка должна была заменить ей отца, мать, бабушку с дедушкой, соседей, брата, погибшего на войне, вышедшую замуж сестру. И скамеечка старалась, она крепко стояла на четырех коротеньких ножках и поддерживала стареющую хозяйку. Ни разу не пришлось чинить ее. Хозяйка умела служить не в пример хуже. После сорока она кочевала из учреждения в учреждение, нигде подолгу не задерживаясь и теряя раз от разу в зарплате. На последней ее службе начальник взял на себя некоторые хлопоты по ее пенсионным делам, чтобы поскорее и по-хорошему избавиться от «каменной бабы». На улице опять пошел дождь, листики деревца намокли и обвисли. - В комнате тебе воздуха не хватает, на улице мокро… - ворчала старуха, поднимаясь на ноги. – Ничего, не ной, не конец света…
Старуху звали Тиной, но она отказалась от имени, когда не нашла больше людей, с которыми можно было бы вместе поплакать. Она решила снова стать ребенком, начала думать о себе в третьем лице и не загадывала на завтрашний день. Часто она садилась на низкую некрашеную скамеечку, закрывала глаза и возвращалась в кряжистый деревенский дом, где на первом этаже кухня с земляным полом, а на втором холодные тесные спальни. Пробегающую мимо, ее окликала проворная, вечно занятая мать, такая хрупкая в огромных отцовских ботинках. Мать собирала на огороде помидоры и напевала вечную свою тоскливую песню: - У зари я выпросила для тебя румянец, сыночек… У инжира выпросила сладость дыхания… Куда уводят тебя? Ох, куда уводят тебя, сыночек?.. Если бы она была жива! Мать пела на огороде, а девочка Тина взбиралась на ореховое дерево и глядела во все глаза в ту непонятную даль, откуда должно было явиться к ней будущее. Где ты, счастье? За тобой уехали из дома братья, тебя искала в замужестве сестра, а мама почему-то боялась: «Не надо нам ни счастья, ни людской зависти! Устала я счастливой быть!..» - Ты чего залезла на орех, сорвиголова? – сердился на Тину отец. – Марш на огород помогать матери! - Папочка, разреши посидеть чуть-чуть! Дороги не увижу, братьев прогляжу-у! Братья все не возвращались. Один осел в Батуми, другой погиб на войне. Девочке казалось, будто тишина, что нежится по ночам на их пустых кроватях, бродит днем по комнатам и крадет кусочки жизни старого деревенского дома. - Куда уводят тебя? – поет мама, суетясь около очага. – Ох, куда уводят тебя, сыночек?.. Слушает девочка Тина, слушает и каменеет. Нельзя больше Тине оставаться здесь – и у нее тишина по кусочкам украдет жизнь. - Где оно, счастье? – спросила старуха у деревца. – Пролилось золотым дождем и ушло с Гогитой… А старуха зачем-то живет… Ладно, ладно, успокойся… вижу, что похолодало… сейчас согреемся… Она вкатила на кухню тележку на маленьких колесиках, в ее кузове стоял ящик с деревцем, и заперла дверь. - Лей не лей – теперь не достанешь! – злорадно поддразнила она дождь. Спасенное деревце еще трепетало ветками, потом затихло. Мальчик мой, Гогита, как могла я тебя предать?!
- А Гогита не жаловался, он сгорел за грехи людей, - объяснила старуха столетнику. – Он и старуху научил свободе, и грех ее взял бы на себя, но свободный человек сам искупает грехи, он сам себе и судья, и палач… Она заметила пожухлый отросток в основании столетника, осторожно оторвала его и бросила в мешок для мусора. Каким красавцем был Гогита в первом классе! Светлолицый, в чудесных кудряшках, они парили над плечами, как крылышки у ангелочка, а злобная учительница на собрании велела их остричь и еще унизила при других родителях: «Вы из мальчика девочку сделали, стыдно должно быть!» - Старуха имеет право судить надломленных: она сама была рабой и трепетала перед тиранами, она знает, чем это кончается, - слышит столетник. – Старуха пророчествует перед рабами, и не ее вина, если они спят крепче, чем хватает ее голоса… - вдруг она прижала руки к груди и горячо, жарко взмолилась: - Господи, пошли им пробуждение, Господи! И тут возопила тишина, последовавшая с ней из деревенского дома в город, но и вопль тишины заглушило бурное дыхание старухи. И дождь стучал в балконную дверь. - Помнишь, Гогите понравилась однажды девочка, потому что у нее личико, как золотой дождь?- шепчет столетнику старуха. – И сегодняшняя девочка была такая… Глаза ее загорелись, она засмеялась даже и потянулась к пластиковому ведру за водой.
5
- Ты!.. Ты все испортила! – кричала Нуну на дочь. – Раскисла, переключила на себя внимание! А мне во что бы то ни стало надо знать, как попала в наш дом эта старуха! - Я не игрушка! – огрызалась Иринэ. – У меня чувства! Они разбежались по разным комнатам. Нуну сидела лицом к стене и морщилась, словно от боли, вспоминая, как задыхался перед госпитализацией Бадри и как поймала она во взгляде еле передвигавшейся от старости склерозной матери своей нечто, похожее на торжество. Смерть зятя возвышала мать над ним – так стойкость, проявленная в бою, возвышает солдата над дезертиром. Нуну пожелала тогда матери смерти, а мужу жизни, но что толку? Неприятный осадок остался, и больше ничего. Иринэ залезла в тапочках на кровать – назло, конечно, назло! – и тихо всхлипывала. До чего же она нескладная! Нехотя папу обидела, нехотя маму… Да и как может быть иначе, если она и себя каждое утро обижает? В зеркале огромный горбатый нос, волосы, как мочалка. Уродина проклятая! Родители ее тоже хороши! Требуют, чтобы она их понимала, а сами?.. Разве ее учили понимать? Заперли в заботливости, точно они семейство жуков в крупе, породы «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу». И выросла Иринэ глухой и слепой, только и умеющей, что жиреть на дармовом изобилии. И мир ее ограничен бумажным пакетом, в котором хранится крупа. Зачем в пакете глаза и уши, достаточно обоняния… До папиной смерти она и представить не могла, что живут на свете такие странные люди, как сегодняшняя старуха. Да и в трущобы попала впервые. А как страшно, когда мама становится, точно скомканная салфетка, и приходится самой защищать себя! До папиной смерти Иринэ бывало тревожно в обществе мальчиков – нравится она им или нет? – и только. Из самой опасной ситуации она знала простой выход: наложить на себя руки. А сейчас Иринэ и умереть страшно, и жить страшно… Папа был такой некрасивый в гробу – лицо черное, плоское, запах формалина… После его смерти все изменилось в мире. А если умрет Иринэ? Вдруг ничего не изменится?
Пришло время ужинать, и они помирились. Иринэ помогла матери нарезать салат. Раскрасневшаяся, с кухонным ножом в руке, она громко хохотала, копируя, с каким гордым видом старуха изрекает свои истины. Нуну довольно кивала и торопливо чистила зелень. - А знаешь, что случилось, когда я на лекции шла? Я рано из дома выкатилась, помнишь? - Помню, - кивает мать. - Догоняют меня четверо чуваков, один говорит… - Какой он из себя? – перебила ее Нуну. - Рыжий. Волосы колечками. А на носу веснушки. - Нам рыжий не нужен, - огорчилась Нуну. - У нас огромный выбор! – съязвила Иринэ. - Не будем же всякую дрянь подбирать! Разговор оборвался. «Бадри на свадьбе был интереснее всех… В одолженном костюме – отец привез товарищу из-за границы…» - думает Нуну. «Мамуля у нас переборчивая, - сердится Иринэ, - а мне с моим носом куда деваться?» - Слушай, какая же я дура, что сразу не поняла! Смерть – это свобода! – неожиданно сказала она. – Папе стало невмоготу грызть крупу в пакете, он взял и протянул ноги… - Почему грызть крупу? В каком пакете?– испугалась Нуну. – С чего ты взяла? Он тебе жаловался? И нельзя так об отце – протянул ноги… - Будет он мне жаловаться, как же! Вам с ним только бы меня стеречь и контролировать!.. чтобы от крупы не отвлекалась!.. - Наслушалась сумасшедшую старуху и несешь бред! – Нуну вытерла со лба холодную испарину, вздохнула. – Я не виновата в папиной смерти, - произнесла она устало. - Да кто тебя обвиняет?! Они опять принялись за стряпню.
Глаза Нуну покраснели, на лбу блестели бусинки влаги. Иринэ зацепила взглядом лицо матери и затараторила с прежней силой: - Так вот. Замечаю, парень ко мне подшивается. Откуда, говорит, девушка, у вас такая симпатичная косынка? Это про ту косынку, что у меня на шее. Мне, отвечаю, ее мамуля подарила. А где, говорит, мамуля взяла? - Вот нахал! – возмутилась Нуну. - Разве так с девушками знакомятся! - Дальше слушай! Мы, говорит, с товарищами идем с ночного дежурства. Всю ночь ловили жуликов, которые такие косыночки подпольно производят. И поймали, говорит. Не будет больше косыночек… - Милиционер! – всплеснула руками Нуну, на мгновение став похожей на себя прежнюю. – Нам милиционер не нужен! - Какая ты, мам! – привычно обиделась Иринэ, швырнула нож на стол, и больше Нуну ничего не удалось из нее вытянуть.
Бадри, Бадри, горе мое… Нуну опять лежала без сна. Завтра вернется от сестры мама, бывшая покровительница и угнетательница Нуну, - посыпятся бессмысленные советы, надоедливые, выводящие из себя. Мама едва передвигается, не совсем ясно соображает, кипит злобой, но не может отказаться от обыкновения управлять, требовать, домогаться. Она наводит критику на любое действие Нуну, унижает ее перед детьми, не понимая, что не завоевывает их, а отталкивает. Она ругает при Дато его жену, и мальчик стал избегать родительского дома. Сестра с семьей живет в материнской квартире, но спихнула мать на Нуну: - У тебя покладистый характер, вы уживетесь. А со мной она с утра до вечера скандалит и уже пыталась отравить нас газом. Вот так. Покладистый характер обязывает терпеть. В свое время мать откупалась от дочерей десятком забавных анекдотов и парой разумных советов. Дочери же вынуждены расплачиваться за эту милостыню месяцами, годами жизни… Но сестрица! Сестрица-то какова!
В детстве Нуну во всем хотелось походить на мать, красивую, вечно занятую, веселую. Но мама будто не замечала ее стараний, только пошутит мимолетом: - С таким бантом мужа тебе не видать, как собственных ушей! И Нуну бежит к зеркалу перевязывать бант. Мама почти не бывала дома – Нуну с сестрой растила бабушка, но какие подарки привозила она из поездок! Как интересно рассказывала о карнавальном великолепии своей отдельной от них жизни! Нуну стукнуло восемнадцать, и мама снизошла до серьезного разговора с ней: - Пора подыскивать мужа! Твой отец не многое сумел в жизни, но я, имея его, смогла многое. К незамужней в наши дни нет уважения, а замужняя улыбнется при надобности, хвостом вильнет – и своего добьется. Муж многие, ох, многие грехи покрывает! Мама познакомила ее с подходящим женихом: двадцать девять лет, и уже лектор в университете. Только вот Бадри помешал. Послушайся Нуну мать, может, была бы счастливее… Молодая мама была умницей, но и она не во всем права – не в замужестве счастье, в характере. Замужняя Нуну надрывает сердце и писчую руку в домоуправлении, таскает продукты, отстаивает часы на кухне. А незамужние хлопот не знают – разве что заглянут за справкой! И платья сидят на них по-особому ладно, и лица не по годам юны, и сладкий запах их заморских духов сводит с ума… Чем Нуну хуже них? Да тем хуже, что родилась тягловой лошадью и не может не тянуть свой воз! Выбиваясь из последних сил, тянет. Победила в ней отцовская порода, порода, которой предначертано подчиняться. Мать, та из породы повелителей, ей непонятна душа дочери, потому и не пошли впрок ее советы. Не пошли впрок? Нуну не представляет себе без матери жизни даже сейчас, когда с трудом терпит ее. Ей кажется, будто они с матерью срослись, как лиана и ствол питающего ее дерева. Личность матери распадается, гибнет, и вместе с ней распадается мир, в котором существует Нуну. Может, не заболей склерозом мать, не умер бы и Бадри?! Что будет с детьми в распадающемся мире? Нуну мечтала, что хоть они поживут в свое удовольствие. Как защитить их, как спасти? Дато умеет устроиться, а все одно проишачит свой век под жениным каблуком. Иринэ в восемнадцать лет по уму тянет на десять, непонятно, в кого уродилась… Ох, Бадри, Бадри… Она вспомнила, как ревновала дочь к мужу, тосковала, когда только вставшая на ножки Иринэ предпочитала общество отца. А Бадри, словно назло Нуну, возился с дочерью часто-часто, даже Дато недодавал из-за этого внимания. И тогда Нуну догадалась, что он видит в Иринэ маленькую женщину и относится к ней не по-отцовски. И в оскорбленной жене и матери закипела ярость: как можно видеть женщину в двухлетней крохе?! Она начала оберегать Иринэ от отца, отправляла ее пораньше спать, отсылала к бабушке, устраивала скандалы. И постепенно Бадри перестал проявлять к дочери интерес, иногда он вообще не замечал ее. Сколько одиноких слез пролила Нуну ночами над детскими сонными головками! Мать учила: - Терпи. Зарплата у него неплохая. Дети к нему привыкли. А если тебе другой мужчина нужен, то со временем это пройдет. Недолгую любовь и я прикрыть могу… Но не хотела Нуну другого мужчины. Словно цепью связало ее сердце в тот день, когда Бадри так просто и так отважно крикнул ей: «Будь моей женой!» Словно приговорили ее к его рукам и к его глазам, и к голосу его раздраженному приговорили… Но не могла она простить ему унижения своего и его измен. Не могла забыть, что ждет он ее смерти – похоронит и приведет детям мачеху… Бадри, Бадри, горе мое…
Нуну поднялась и пошла в комнату дочери. Иринэ спала при свете ночника. У кровати валялась раскрытая книга. - Подвинься, - попросила Нуну шепотом. Иринэ засмеялась спросонья и перевернулась на бок. Нуну пристроилась на краешке постели, валетом, обняла ножки своего непутевого ребенка, прижалась к ним щекой. - Что с тобой, мамочка? – Иринэ села. - Бессонница. Они помолчали несколько мгновений, потом Нуну решилась: - Сходи ты к этой проклятой старухе и выпытай у нее, была ли она любовницей твоего отца. Тебе она скажет. - У папы любовница?! Во даешь!.. И на кой тебе это знать после… - Иринэ не договорила. – Чудачка ты, честное слово!
6
Приятный ветерок, от него на душе радостно! Иринэ расправила уголки косыночки на шее, огляделась по сторонам и побежала вниз по улице. Удивленное лицо в окне, рука, которая хочет остановить, восклицание: - Что сталось с Иринэ? На пожар, что ли? Иринэ на лекции опаздывает! Опаздывает на лекции! Когда бежишь, чувствуешь себя птицей. В пакет со сладкой крупой врывается ураган, разрывает границы мира, пускает в тебя солнце. И несет тебя по земле в сполохах света и ярости… Полет урагана становится твоим полетом. Забываются огромный нос, папина обида, мамуля, безвольная, как салфетка. Перестает владеть тобой новая головоломка – была ли у папы любовница. Любовница – это из романов, а папа обыкновенный, из каждого утра, каждого вечера. Ты не успеваешь оценивать и противопоставлять события, но зато успеваешь творить их.
Однажды Иринэ подглядела, как отец играл волейбольный мячом Дато. Подпрыгнет и ударит по мячу резко и сильно. Мяч стукнется о полировку шкафа и отлетит к трельяжу. Отец засмеется и кинется на постель, по которой катится мяч, как вратарь на стадионе… Тут он заметил Иринэ, покраснел и сел на кровати, выпрямив спину и сердито сдвинув брови. Он испугался, что дочь растрезвонит, как он шалил в неположенном месте. А Иринэ никому не растрезвонила, даже мамуле. Она умеет хранить тайны, и очень горда этим. Сегодняшняя Иринэ храбрее минувшего папы, она ни перед кем не покраснеет – добежит до перекрестка и окончательно порвет поводок воспитанности и осторожности. Она станет ураганом и закрутит в спираль пространство, вырывая с корнем деревья, круша твердыни… Иринэ миновала перекресток, но не сумела стать ураганом. Отяжелели ноги, закололо в левом боку. Вот-вот повстречается ей тетя Кето и скажет: - Ты ли это, Иринэ? И придется признаваться: она Иринэ, мама и папа назвали. - У тебя отец умер, а ты вместо того, чтобы скорбеть, носишься по городу и позоришь семью. Такую семью позоришь! - Так ведь папе уже все равно! – возразит Иринэ грозной тете Кето. – Мы ему порядком надоели, он взял и освободился! Папа сейчас, должно быть, забыл Иринэ. Он, сколько она его помнит, и тремя словами с ней не перекинулся, только хмурился и молчал. А в больнице, когда она отказывалась слушать его, смотрел на нее умиленно и вздыхал: - Ты у меня совсем взрослая! - и в голосе его слышалось облегчение. Виновата, в глухоте и слепоте виновата! – затосковала вдруг Иринэ. Она замедлила шаг, опустила голову и уже понуро потащилась дальше. Даже веселый проспект Руставели больше не радовал ее.
Вот так всегда. Ее замечательные настроения кончаются слезами. И сразу вспоминаются прошлые горести. Когда-то она, восьмиклассница, влюбилась в десятиклассника – своего партнера в школьном драматическом кружке. По сюжету пьесы Иринэ надо было с ним ссориться, но она была влюблена и играла не обиду, а всепрощение и нежность. И, конечно, разразилась катастрофа: на ее роль взяли Лию из девятого, мамуля отправилась жаловаться к директору, и ребят из драмкружка вызвали туда же. Ребята сгрудились около двери, мамуля стояла рядом с директорским столом, крепко держа Иринэ за руку. И получилось, будто ребята сами по себе, а Иринэ сама по себе, и они друг другу враги. Наверное, поэтому десятиклассник вышел вперед и заявил за всех, что они с Иринэ не могут: она дура и слова выворачивает наизнанку.
Впереди показалась филармония, перед ней каменная дева с мощными плечами и хрупким станом. Гирлянды театральных масок – от подмышек к запястьям, будто паруса на мачте. В природе не существует таких сильных плеч на хрупких фигурах, иначе люди взлетали бы при каждом порыве ветра. Иринэ подумала, что в городе должно быть просторно, как в небе, - только тогда можно быть собой, и близкие станут якорем, а не поводком, сдавившим горло. Вот было бы здорово в таком городе! Людям не пришлось бы умирать, чтобы говорить со своими детьми. Они говорили бы с ними ежедневно, в больнице оказалось бы достаточно прикосновения, и они поняли бы друг друга, а любовницы… Интересно, были бы в таком городе любовницы? Однажды папа повез Иринэ, Дато и маму за город. Они долго гуляли и набрели на ущелье с узеньким висячим мостиком – любой порыв ветра обращал его в маятник. Иринэ стояла на мостике, держась за веревочные перила и не чувствовала от страха тела. Но тут по тонким доскам с противоположной стороны величественно прошествовала корова, надвинулась на Иринэ, коснулась теплым уютным боком… Иринэ оторвалась от перил, сделала шаг, ни за что не держась, подпрыгнула на одной ноге… Мостик перестал был опасным, сделавшись партнером по танцу. Может, любовница и теплый коровий бок похожи? Мистический способ почувствовать себя в безопасности?
Иринэ подняла глаза от асфальта и остолбенела. По боковой улице спускался к ней давешний рыжий незнакомец. Рыжий незнакомец… Звучит! Она побежала быстрее, замирая от ужаса перед чем-то опасным и желанным, похожим на вихрь, врывающийся в пакет с тяжелой крупой. Этот рыжий далеко не ураган, у него спокойные глаза. И все же… Его шаги за спиной. Вот они поравнялись. - Вы? – она счастливо засмеялась. - Я. – глаза его вдруг сделались лучистыми, будто он сбросил маску или, наоборот, одел ее. Может, маски – его паруса, как у каменной девы перед филармонией? - Вы на меня засаду устроили? - Охочусь на хорошеньких девушек! Надо, надо что-то делать! Расшалившиеся козлята-ощущения толкали Иринэ изнутри рожками, щекотали в горле. - Нахал! – она вознесла руки ввысь, подставила лицо голубизне неба. – Вы урага-ан, урага-ан! – пропела она меццо-сопрано, и подождав, пока последний звук растает в воздухе, выдохнула почти шепотом. – У-у-ра-а-га-ан! - С вами не соскучишься! Вчера держались тихоней, а сегодня буян из буянов! - он отступил на шаг и принялся бесцеремонно ее рассматривать. Теперь глаза его сделались цепкими, заинтересованными, с упрятанной в глубину зрачка насмешкой. И вдруг что-то опять изменилось в его лице, черты смягчились, и он улыбнулся (сбросил маску или одел ее?). - Да ты же совсем ребенок, малыш. Как тебя зовут, сумасшедшая ты душа? Иринэ опустила голову, кокетливо повела плечами. - Так и будем играть в секреты? В незнакомце было нечто от папы, но больше от карликового деревца на балконе у маминой старухи, деревца, от которого заводится в доме мошкара и веточки которого торчат точь-в-точь как косички у первоклассницы. В незнакомце таилась загадка, как в слове «любовница», - тревожно и сладко замирает дыхание у очарованной Иринэ, и она уже не слышит в этом слове ничего, кроме корня - «любовь»… Незнакомец был судьбой, роком, а она все стояла перед ним и молчала, не в силах осознать смысл своего молчания. Незнакомец! Рыжий незнакомец! Наконец Иринэ неуверенно произнесла: - Вы не испортите мне настроение, правда?
7
И этим утром старуха ждала золотой дождь. Презирая себя, ждала. Ненавидя, ждала. Плотные шторы заслоняли небо за балконной дверью, темно-коричневые обои уменьшали комнату до размеров могилы. Шея затекла, от пола несло сыростью и тленом, и, по чести, физические муки ее были подобием адских. А старухе мерещился золотой дождь с потолка и юное улыбающееся лицо Гогиты: - Э-ге-гей, мама!
В тот день она привезла мальчика домой. Он только пережил тяжелую операцию, но улучшения в состоянии не было. Она почти донесла его до кресла около балконной двери, раздвинула шторы и пошла на кухню - ставить чай. - Мама, мама! Быстрее! Она в ужасе выронила масленку и бросилась к Гогите. - Мама, смотри, золотой дождь, настоящий золотой дождь, как ты читала! На лице ее мальчика сияла улыбка. Как давно она не видела его таким радостным! - Смотри! Смотри! – поворачивал он ее голову. И она повернулась. Солнце садилось за горизонт, небо над горой, улицами, деревьями полыхало торжественным прощальным пламенем. Кое-что уже утопало во мраке, кое-что высвечивалось солнцем изнутри, золотилось и казалось почти прозрачным. Не за этой ли красотой уезжала она без оглядки из старого деревенского дома? Неужели счастье явилось, когда надежда потеряна? Гогита, ее ненаглядный, ее ребенок, подарил ей счастье. Тине чудилось, будто на город и впрямь льется золотой дождь, веселящий живых и оживляющий мертвых, и что красота его несет спасение. Смывают волшебные струи болезнь с тела Гогиты, тонет в потоках света собственная ее нескладная судьба. Счастье, оно для всех, и получаешь его незаслуженно…
- У зари я выпросила… Старуха обвела сухими глазами темно-коричневые обои. Вздохнула. Потом поднялась с пола, скатала в трубку ветхий матрас, затолкала постель в шкаф. Золотого дождя ей захотелось! Совсем спятила от одиночества! К чему золотой дождь без Гогиты? Серые скучные длинные дни… Может, заглянет парнишка из второго подъезда? Старуха познакомилась с ним, когда он, неумело сгорбив спину, писал школьное упражнение на перекошенной дворовой скамье. В нем еще мало что было от раба, многое – от Гогиты… Старуха села на скамью, помолчала. - Как тебя зовут? – спросила она. Парнишка ответил не по-детски серьезно: - Иосиф. - Сосо? – переспросила старуха. – Старухин брат был Сосо и на войне погиб… Сосо коротко звонит в дверь, робко входит в квартиру, садится на табуретку около стола в комнате. Задав пару вежливых вопросов, он достает из портфеля учебники и надолго затихает над ними. И тогда старуха выскальзывает на кухню, оттуда на балкон, припадает снаружи к двери в комнату и смотрит на него через стекло. Глаза слезятся, сквозь влажную пелену видится ей за столом Гогита, и сердце больно-больно ноет в груди. Проклятие матерям, рожающим себе на съедение! Проклятие предающим, опустошающим, вытаптывающим живые ростки! Нет сильнее их власти и потому нет страшнее их преступления! Проклятие матерям-бездельницам, плодящим безруких! Проклятие матерям-лгуньям, плодящим коварных! Проклятие матерям-рабыням, плодящим рабов! И старуха заслужила проклятие – она здоровается с матерью Сосо и спешит мимо, а надо бы кричать о предательницах-матерях! Страх владеет старухой в такие минуты, у нее надламывается спина, и она по-рабски сгибает в коленях ноги. Если мать Сосо перестанет водить в дом разгульных гостей, парнишке ни к чему будет стол в старухиной квартире, и не покажется старухе больше, что за столом Гогита… Будь ты проклята старуха-себялюбица, бегущая от расплаты одиночеством!
Отец Гогиты так и не расписался с ней. Он жил по-соседству, и каждое утро, проходя с ребенком через двор, Тина сталкивалась с ним, шагающим на работу. Старуха – бывшая Тина – не могла понять, почему рядом с Гиви ноги отказывали ей, она прислонялась к стене, чтобы не упасть; почему вмиг ослабевшей рукой она показывала ребенку на отца и ощущала удовлетворение, когда малыш гугукал изменнику: не забывай о нас, плохой человек! Что толкало ее на муку? Вышла бы из дому пораньше, и не было бы встречи, не было бы ее обмякших ног и ярости в глазах Гиви. Но нет, она упивалась его яростью, а губы словно против воли выговаривали злое: - Чтобы ты не жил на этом свете, Гиви! Чтобы скорее вырыли тебе могилу! Чтобы кончился с тобою вместе весь твой род! Проклятия возвращали ее в деревню, к ссорящимся из-за проказливой свиньи высохшим бабкам, к маме на огороде, к сказке, рассказанной угрюмым, всегда озабоченным отцом. Не удалось родителям схоронить тишину в старом деревенском доме, и в городе настигла она Тину, и в городе по кусочкам разворовала жизнь… Да существует ли он вообще, счастливый мир, увиденный с орехового дерева на отчем дворе? – спрашивала себя Тина. Куда она стремилась? Неужели к мучительному наслаждению безволием мужчины, возможностью унизить его? - Чтоб не знать тебе покоя, Гиви!.. Чтобы дети твои стыдились тебя, предатель! Чтоб испил ты из чаши, из которой меня напоил! Как-то ей пришло в голову, что род ее врага продолжается в Гогите, и она испугалась: не накликать бы беды! Но ведь Гиви отказался от сына, успокоила она себя, Гогита – не продолжение его, он принадлежит только ей, и никому больше. И губы опять и опять выговаривали древнюю, как мир, формулу ненависти: - Чтоб не дожил ты до светлого дня, Гиви! Чтоб матери твоей пришлось причитать на твоей могиле! Чтоб кончился с тобою вместе весь твой род!
Пыль собирается. Старуха протерла рамку, внутри которой смеялся маленький Гогита, вытрусила тряпку на лестничной площадке и занялась полом. Пыль только и ждет, чтобы на минуту забыли о ее существовании, и тогда она покроет серой вуалью щели, углы, глаза комнат, забьется в полные горечи рты людей. Пыль делает неотличимыми друг от друга человеческие лица, она и есть смерть и царит над справедливостью, потому что, как и счастье, даруется незаслуженно… Смерть спасает рабов от разоблачения, превращает их в одинаково звучащие имена на граните. И невозможно уже отличить свободного от тирана, жертву от грешника, воскресшего после гроба и сгнившего в земле… Кто заступник живущим в несправедливости и заразившимся ею? Кто заступник заболевшим себе на горе? Многие берут на себя роль заступника, но нет пользы от их трудов, ибо сами они выросли в несправедливости. А выросший в несправедливости похож на кривой куст: ветви его топорщатся в одну сторону. Некому заступится за младенца, вступающего в мир. Не ведают те, кто вырос в несправедливости, что младенец рыдает не из каприза. Он рыдает в страхе потерять материнскую любовь. Но мать-рабыня, наученная властителями своими, не спешит к нему: так мир указывает новорожденному его место раба и без слов учит земному одиночеству. Мальчик мой, Гогита, ты до последнего часа верил, что мама поможет тебе! Смерть впервые переступила порог Тининого дома, когда Гогите исполнилось восемь. Мальчик заболел в тот год гриппом, перенес тяжелое осложнение, и у него нашли опухоль. Смерть села у постели ребенка и просидела долгих шесть лет, пока обессиленная Тина не выпустила из ладоней усталую головку Гогиты. Смерть усмехнулась бессилию матери, поцеловала страдальца в лоб и вышла. Лучше б она коснулась холодными губами и Тининого сердца! Отказано. В успокоении отказано. Осуждена жить. К началу болезни Гогиты они уже перебрались на новую квартиру, Гивину семью потеряли из виду, и вдруг страшный диагноз возвратил Тину к забытым было сомнениям. Это она, мать, накликала на Гогиту беду! Ради уязвленного самолюбия своего не пожалела ребенка! Это ее губы творили зло роду Гиви, забывая, что кровные узы нерушимы от Бога и что не дано человеческому разуму постичь их во всей глубине. И ведь не укрылось от ее глаз, как мальчик по-гивиному морщит лобик, как наклоняет голову, как теребит ворот свитерочка. Не укрылось от глаз, да сердце ослепло. Потом были годы нескончаемых угрызений совести, метаний из Тбилиси в Москву, операции, лекарства, опять операции и опять лекарства… Были минуты отчаяния и пустоты и минуты сумасшедшей надежды, когда сидела она над изголовьем сына возбужденная, переполненная мечтой. Под конец усталость серой пылью запорошила чувства, и она смирилась перед неизбежным. Но иногда, очнувшись от душевной одури, она снова начинала ощущать, какая несправедливость совершается с ее светлым, прекрасным мальчиком, и тогда она становилась на колени перед иконами и повторяла почти в беспамятстве: - Возьми мою жизнь, а род Гиви оставь! Зачем ты дал силу словам грешной женщины, Господи?! Но Бог хранил молчание, и не было исхода ее муке, и она погибала. Однажды она ясно вспомнила себя с Гогитой на руках около стены, вспомнила, как показывала сыну на отца, как вспыхивала ярость в глазах Гиви и как упивалась она его яростью. Она подумала, что это знак ей от Бога идти к Гиви с повинной, и поблагодарила Всевышнего. Она раздобыла через горсправку адрес бывшего врага и понесла ему свое раскаяние и свои мольбы. Не может он не простить, когда от этого зависит жизнь их ребенка! Рабыней из рабынь поднималась она по лестнице чужого дома. Дверь ей открыла девочка в розовой пижамке. Ножки ее утопали в огромных мужских тапочках, на шейке белела марлевая повязка, под глазами темнели круги. - Не узнаешь? – спросила Тина, всматриваясь в лицо девочки. – Я ваша бывшая соседка. Папа Гиви дома? - Вы… вы… - рот девочки искривился. – Папа переходил улицу… Девочка не договорила, но Тина поняла: опоздала. Неизбежное свершилось. Как ты мог, как ты мог дать силу словам грешницы, Господи?! Девочка была похожа на нежный, не знавший солнца лесной колокольчик , и Тина содрогнулась: неужели и это дитя убили ее губы?! - Ты больна, детка? – произнесла она, превозмогая удушье. - Ерунда. Грипп. Грипп? Как у Гогиты в начале болезни? Тина по-звериному закричала и бросилась прочь. Она потеряла надежду и стала каменной. В этот миг ей открылась правда мира.
- Мама, смотри, золотой дождь! Настоящий золотой дождь, как ты читала! Кому нужен золотой дождь без Гогиты?
8
Иринэ еле дождалась конца лекций. «Михо, - выводила она на последней странице конспекта, - Михо, рыжий незнакомец». Мамуля утверждает, что Иринэ нетерпеливая, не знает удержу и за ней нужен глаз да глаз. На самом деле Иринэ независимая, она мечтает вырваться из рая жуков - пакета с крупой, прозреть и обрести слух. Михо мимолетом упомянул, что работает в здании, где пожарная команда. Иринэ не надеялась его там найти, но взбиралась сейчас по лестнице этого здания и спрашивала каждого встречного: - Вы не знаете Михо? Он здесь работает. Рыжий такой! Наконец очередной прохожий – толстый дяденька в милицейской форме – почесал в затылке и уточнил: - Эксперт, что ли? Иринэ радостно закивала, и ее препроводили по бесконечному административному коридору в узкую и длинную кишку-лабораторию, большую часть которой занимал продолговатый стол с лазером. Помещение было темное, неуютное, с казенным приютским запахом. Единственное хорошо освещенное место – возвышение-сцена в конце, около окна. Пол здесь несколькими ступеньками поднимался вверх. На возвышении сидел за письменным столом человек. Он сидел спиной к Иринэ, голова его была опущена – на фоне окна выделялась ссутулившаяся спина и рыжий размытый бугорок над ней, обрамленный бесцветным сиянием. Из-за неудачной позы и странной подсветки человек казался чем-то механическим и безличным вроде лазера на продолговатом столе. «Неужели это он? Кошмарики!- испугалась Иринэ. – Эта комната хуже кладовки, забитой пакетами с крупами. Даже в пустыне Сахаре бывают пыльные бури, а тут ты параллелепипед или конус с бантиком, и ветер тут бумажный, и наводнение чернильное…» Не может рыжий незнакомец быть параллелепипедом! Иринэ взошла по ступенькам и очутилась на сцене – Михо обрел голову и объем. Еще шаг, и она увидела руки с линейкой, измерявшие штрихи на черно-белой фотографии. Ощущение неправильности места, где она находилась, понемногу оставило ее, но приютский запах… Чувствуешь себя объектом казенного милосердия… Почему молчит Михо? Неужели он не слышит, как она приближается? От его молчания с ума можно сойти! - Вы ко мне? – произнес Михо, не отрываясь от фотографии. – Проходите. Я сейчас. Иринэ опустилась на краешек жесткого стула, натянула на колени подол юбки. Клеточки ее тела пульсировали в беспокойстве, кровь давила на виски. Нет, не смеет она бояться Михо! Она должна жить, а не обжираться прогорклой крупой. Она должна стать ураганом! Из противоположной стены грыжей выпирала большая уродливая полка. На ней расположились весы в стеклянных колпаках, микроскопы, загадочные приборы с экранчиками и без. «Он этим штукам хозяин, - подумала Иринэ. – Ему не до красоты. Он трудолюбивый и суровый». И тут же спина Михо стала похожа на папину спину, комната наполнилась папиным светом.
Когда Иринэ была совсем маленькой, папа брал ее на работу, и там она впервые увидела приборы, только не миниатюрные, как в этой лаборатории, а огромные-преогромные и грозные до ужаса. Чтобы осмотреть один прибор, папа долго лез на высоту по металлической лестнице, потом помахал Иринэ рукой и скрылся в гигантской горловине. «Сейчас зверь сожмет зубы и перегрызет папу!» - поняла Иринэ и закричала от горя. Сколько лет не помнила она этого случая! И вдруг в единую минуту глаза различили в подробностях лица сбежавшихся на крик людей, различили сквозь кисею времени лицо молодого папы – на щеке его и халате чернели жирные пятна, но сам он был невредим. И в сердце вспыхнула давно потерянная радость папиных рук, папиной улыбки, радость, что добро всегда побеждает зло, радость, что… Куда только девалась ее детская влюбленность в отца? Правду говорит бабушка, влюбленность – это приманка для глупых бабочек-однодневок.
- Чем могу быть полезен? – Михо отложил фотографию в сторону. – По поводу экспертиз мы справок частным лицам не даем. Тут он повернул голову, узнал Иринэ, и выражение лица у него сделалось, как у счастливого ребенка. «Словно одел или снял маску», - в который раз померещилось Иринэ. - Малыш, ты? Вот так сюрприз! - Я! – выпалила Иринэ и покраснела. - Соскучилась? «Да», - хотелось ответить Иринэ, но тогда Михо подумает, что Иринэ за ним бегает, и потеряет к ней всякий интерес. - Мужчины любят, пока не любят их! – пророчествует мамуля. - У меня для вас развлечение, обхохочетесь, - деловито сообщила Иринэ и осталась довольна своей деловитостью. – Мамуля поручила мне вывести на чистую воду одну старуху, а вы специалист! - По старухам? – глаза Михо погасли. - По выведению на чистую воду! Михо отрицательно покачал головой. И эта девчонка из породы хищниц, сказал он себе. Не успела подцепить мужика, как начала выжимать из него соки. Мир замешан на корысти, Михо это понял гораздо раньше, чем научился стройно излагать свои мысли. Если не хочешь, чтобы тобой управляли, управляй сам. Управлять совсем не сложно. Люди придумали два безотказных кнута – слова «плохо» и «хорошо». Научись щелкать ими к своей пользе, и ты уже главнее дедушки с бабушкой.
Первая его женщина была женой офицера части, где он служил. Она заметила его на одном из армейских праздничных вечеров – он играл и пел под гитару, и предложила продолжить веселье у нее дома. Они набились в газик, трое офицеров, их жены и солдат с гитарой. Сидели тесно-тесно, почти друг на друге, и жена офицера, стареющая блондинка, по-хозяйски положила руку на колено солдата. В машине было темно, никто не мог заметить, как ее рука гладила колено Михо, жала, поднималась все выше… Он не видел ее лица, но знал, что по нему гуляет торжествующая улыбка. Она наслаждалась ощущением опасности и беспомощностью мальчишки, которого можно завести, как автомобиль, - не хочет, а поедет. Еще миг, и Михо потеряет сознание! А рядом хохотал над похабным анекдотом развеселившийся муж.
Такова жизнь. Ханжи изображают святых и добиваются духовной власти. Другие, без изысков, хватают ту власть, что под руку попадет. Нечего злиться на Иринэ. Нормальная девчонка! - Могу установить солевой состав вашей чистой воды, но вывести на нее, извините, не в моей компетенции, - сухо сказал Михо. – Советую обратиться в районное отделение милиции. Что это с ним? Клеточки в теле Иринэ пульсировали все беспокойнее, но она не дала себе поверить в недоброжелательность Михо. Ураган, на то и ураган, чтобы загадывать загадки, а она долго сидела в пакете, ослепла и оглохла, как ей разобраться в перепадах его настроения? - Вы, наверное, все каверзные вопросы знаете, - умоляюще произнесла она. – Облегчите мое положение. - Каверзные вопросы? – Михо расхохотался. – Каверзными вопросами ты меня в секунду за пояс заткнешь! Опять презрительная нотка в голосе! Это все комната-сцена, она делает его бездушным, запрограммированным автоматом. Минуту назад у него были теплые глаза. Иринэ старалась удержать в душе чувство, с которым искала его. Старалась не забыть, как радовалась, что не придется одной идти к отвратительной черной вороне. И зачем только мамуле нужны ее откровения? Зачем она послала Иринэ клевать падаль – мертвое тело своего отца? Если б у Иринэ была близкая подруга, она попросила бы ее сходить к старухе. Но у Иринэ есть только мамуля. Мамуля и Михо. - Вы под стать моему брату, - глаза Иринэ налились слезами. – Он, чтобы не приставала, меня паразитом называет. Ну это уж слишком! – решил Михо. Никакой девичьей гордости! Так и лезет. К тому же действует не по правилам: вымогает услугу, а они даже не целовались. Да только она не на мальчишку напоролась. Ему тридцать два года, он молоденьких хищниц видел-перевидел! Хорошо, она свое получит!
- Все будет тип-топ, - сказал Михо и вышел. Он поднялся на следующий этаж, заглянул в первую от лестницы дверь, а не найдя там Вахтанга, во вторую. Потом он несколько минут шушукался с Вахтангом в коридоре и в результате стал обладателем нескольких одолженных десяток и ключей от оранжевых жигулей. Еще минутный разговор с начальником – и его рабочий день кончился. Когда он вернулся, Иринэ все так же сидела на краешке стула, сложив на коленях тонкие ручонки, и ему захотелось превратить их противоборство в шутку, пригрозить отшлепать ее и отослать девчонку к матери – сказки слушать. - А я в тревоге, вы меня совсем бросили… - кокетливо произнесла Иринэ заготовленную фразу (клеточки ее тела пульсировали и пульсировали). – Бабушка не велела мне оставаться одной в чужой комнате: вдруг что-нибудь пропадет, а на меня скажут. - Едем к твоей старухе! – понимающе усмехнулся Михо. – По дороге пообедаем в ресторане. - Нет, нет! Я сыта! – отпрянула Иринэ. - Неужели обойдемся без шампанского? – прищурился он. - Я не пью, - собралась ответить Иринэ, но подумала, что Михо опять запрезирает ее, встала и последовала за ним. Перед оранжевыми жигулями она ненадолго замешкалась. - Я только от автобуса знаю, как идти… - Ничего, по дороге сообразим. Она опустилась на переднее сидение и посмотрела на мир через ветровое стекло. Мир выглядел уютным и дружелюбным, но в нем не хватало простора, и от этого Иринэ снова сделалось тоскливо. Она испугалась, что все перепутала в жизни и в Михо. Но тут, как обычно, в ее мысли вмешалась мамуля. Иринэ точно наяву услышала ее требовательный голос, настойчиво повторяющий: «Не садись в частные автомобили. Тебя завезут подальше, изнасилуют и убьют!», и разозлилась на мамулю сверх всякой меры. Сыта. Сыта по горло убогой жучьей мудростью! Она повернулась к Михо, который включил зажигание и выруливал со стоянки на улицу, и назло мамуле капризным голосом произнесла: - Покатаемся?
9
Оранжевые жигули выехали на поляну и остановились. Мотор рявкнул в последний раз и заглох. Стало тихо. Иринэ услышала, как облегченно вздохнул лес, зашуршал, словно устраиваясь поудобнее, и вспомнила папу перед смертью: - Ты у меня совсем взрослая! – и такой же вздох, и шуршание больничной простыни. - Хочешь выйти? – спросил Михо. Она отрицательно покачала головой. Он взглянул на нее и увидел огромные влажные глаза, жадные ноздри, захлебывавшиеся воздухом, тоненькую косыночку вокруг длинной шеи. Она была похожа на молодое животное, скрывшееся от погони, но еще не уверенное в спасении, настороженное. Ему стало все равно, хищница она или нет. Он обнял ее и прижался лицом к ее лицу. - Тебе грустно, Малыш? Иринэ закрыла глаза и всхлипнула, по щекам ее потекли соленые ручейки. Они были теплые и дурманные, Михо пил из них и целовал припухлые губы, и опять пил, и опять целовал. Ему казалось, что в соленых ручейках течет вода забвения: стоит отпить глоток, и усталое сердце избавится от камней, которыми его придавило к земле. - Я… я не знаю, что со мной… я не знаю… - шептала Иринэ между поцелуями. – Хорошо и страшно… жить хорошо и страшно… Михо слышал и не слышал ее бред, он прижимал ее к себе все теснее, пил из ручьев забвения и не мог забыться. Губы его уже шарили по ее шее, но мешала тоненькая косыночка, и пальцы развязали и отбросили ее. Это почти незаметное движение почему-то вспугнуло Иринэ, тело ее напряглось, щеки высохли. Михо сначала не понял, что она сопротивляется, и продолжал целовать и ласкать ее. Но что это?! Она его отталкивает?! И прежнее гадливое ощущение вернулось к нему. Он силой повернул лицо Иринэ к себе и закричал в озлоблении: - За услуги надо расплачиваться, забыла?! - Мамочка! – пискнула Иринэ. Играет! Снова играет с ним в кошки-мышки! Михо коротко рассмеялся и рванул на себя ее кофточку, но даже мягкая податливость груди утратила для него вкус без бессвязного шепота и ручейков забвения. А она опять за свое! Пытается застегнуться, вырывается. Ей обязательно надо довести его до крайности! Ну что ж, посмотрим, кто кого! Михо перегнулся через Иринэ, открыл дверцу и толкнул девушку. - Вылезай! Она выбралась наружу, запахиваясь на ходу. Жалкая, растерзанная, ни чуточки не хорошенькая. Михо сплюнул, выбросил из машины ее косыночку и сумку, завел мотор. Выруливая на дорогу, откатился назад, потом рванул вперед. Краем глаза он заметил, что автомобиль напугал Иринэ, она вскрикнула и отшатнулась к дереву. Ничего. Наукой будет. Машина выскочила на дорогу и помчалась, набирая скорость, мимо осеннего леса, где еще несколько минут назад Михо было так хорошо, мимо недостроенной водокачки, облюбованной бродячими собаками, наперерез линии высоковольтных передач. Стоп! Как он раньше не подумал? Она напорется на бродячих собак. Может, вернуться и забрать девушку? Еще чего не хватало! Когда молоденькие хищницы идут на динамо, они запасаются палкой. Молоденьким хищницам бродячие собаки нипочем! Где-то справа, за поросшим кустарником холмом, выстрелили. Через минуту еще раз. Черт, и об этом он сразу не подумал. Здешние места облюбовала золотая молодежь. Напорются ненароком на девчонку и пристрелят. Или изрежут ножами, видел Михо такие трупы. Хищница-то она, конечно, хищница, но слишком уж молода для смерти. И если ей судьба кончить под пулями, то пусть это произойдет без помощи Михо. Он не зверь, он с женщинами не воюет. Михо выругался и повернул машину назад.
- Иринэ! – позвал Михо. – Иринэ! Девушки нигде не было. Он потоптался около жигулей и побрел вдоль деревьев, вглядываясь сквозь ветки в глубину леса. Неужели эта дура прячется от него?! На дороге он ее не встретил, другого пути отсюда она не найдет, не отправилась же она в чащу, чтобы заблудиться и провести ночь под какой-нибудь елью! Молоденькие хищницы свою выгоду знают и не делают лишних движений. Молоденькая хищница должна была встретиться ему по дороге. Без капризов не обошлось бы. Она обиженно надула бы губки, топнула бы ножкой, но села бы в машину, как миленькая. А на надутые губки и сердитые ножки Михо плевать, он придумал волшебное словечко, отрезвляющее молоденьких хищниц. Они у него по струнке ходят! Что это? На земле под деревом валялась тоненькая косыночка. Выкинула или потеряла? Выкинула, догадался он, выкинула. А до того еще пыталась порвать – вон сколько ниток понадергано. И чем же провинился этот жалкий клочок? Тем, что плохо защищал гордую шейку хозяйки? Поистине ему попалась очень темпераментная хищница! О косыночке я заговорил, когда знакомился с ней, вспомнил Михо. Она казалась безгрешным доверчивым существом, и у нее была искренняя улыбка. Я фанфаронил перед ней. А она всему верила или притворялась, что верит. Нет, не притворялась, верила. Что если девчонка влюбилась в меня? Этого только не хватало! Чересчур неприятно. Лучше такого не допускать. Но тогда многое объяснилось бы. И почему она прячется тоже. За все время она ни разу не вспомнила о старухе, к которой звала идти. И пить она не умеет, и в ресторане вела себя, как пай-девочка на званом ужине. На профессионалку она не похожа, да и начинающая не гнала бы столько дури. Какой-то теленок на лугу. Неуклюжий, неловкий. Все точно. Дурак, он и есть дурак! Связался с малолеткой, влюбил ее в себя, а решил, что тигра одолел. Ох, дурак! - Малыш! – позвал Михо. – Малыш, я тебя не трону! Тишина в ответ. Когда-то Михо любил по-настоящему, мучился, страдал, но его девушка вышла замуж. Пока он служил в армии. Говорят, не особенно счастлива, лечится от бесплодия и ищет по роддомам здоровую девочку, чтобы усыновить. Повезло бы ему, женись он на ней! Семья без детей – пародия на семью. Нет, хорошо, что она не дождалась его из армии, она была из кривляк и хищниц, а Михо после армии, ох, как разонравились кривляки и хищницы. Ему вообще разонравились женщины, хоть и требует их тело. Тело, не душа. Для души нужны собака или ребенок, или мужчина, который не ударит в спину. А женщины агрессивны и капризны, и предают, как дышат. - Малыш!.. Малыш!.. Где-то совсем близко треснула ветка, он быстро обернулся и заметил мелькнувший между деревьями бежевый плащик Иринэ. - Малыш! – закричал он. – Я тебя не трону, Малыш! Девушка бежала, не останавливаясь. В несколько прыжков он догнал ее и схватил за локоть. Она забилась в его руках, как пойманная птица, и красные ее опухшие глаза снова наполнились слезами. - Успокойся… успокойся… - уговаривал Михо. – На дороге опасность… Я тебя довезу до дому… Она вырывалась и плакала, и справиться с ней было нелегко. Наконец ему удалось посадить ее на землю. Она еще немного повырывалась и затихла, горестно повесив голову. Волосы ее растрепались и упали на лицо, Михо были видны только трясущиеся бледные губы - На дороге опасность, понимаешь? - … - Ты умеешь водить машину? - … Михо убрал волосы с ее лица и встретил воспаленный ненавидящий взгляд. «Ну и дурацкая ситуация, - подумал он. – Надо изобрести необычный ход, заинтересовать, увлечь. Она ребенок и легко переключится. Надо изобрести ход…» - Если умеешь водить машину, садись в жигули одна. Вот ключ от зажигания. Оставишь автомобиль около моей работы, ключ отдашь охраннику, ладно? Машина не моя, так что вернуть надо обязательно. Иринэ посмотрела на протянутые ключи и отвернулась. - Ну чего же ты? Если бы я хотел дурного, зачем мне давать тебе ключи? Она помолчала с минуту и выронила: - Откуда я знаю! - Смотри: ты в моей власти, но я тебе ничего не делаю. Даю ключи. Она опять помолчала и тихо спросила: - А вы как? - Я пойду пешком. Берешь? Она покачала головой. - Почему? - Водить не умею. Слава Богу, они уже беседуют. Еще усилие, и он ее уломает. - Не умеешь водить, я тебя довезу. - Нет. - Почему нет? - … - Понимаю, я тебя обидел. Прости. - … - Не капризничай, я же попросил прощения, чего тебе еще? Крови моей напиться? - Да. Во дает! Артиллеристское орудие, а не девушка! Искры во все стороны, и дым из сопел!.. И искренна, удивительно, но искренна. Это становится забавным. Такие страсти!.. Ха! Сама подсказала необычный ход. Ну, держись, Малыш! - Пошли! – он поднял Иринэ на ноги и потащил к жигулям, где, как он знал, Вахтанг прятал в багажнике от сына стартовый пистолет. – Бери! – Михо достал оружие и сунул его девушке. – Стреляй! Он заряжен. Иринэ смотрела на черное чудовище в своей руке и не понимала, чего хочет от нее этот рыжий, этот милиционер, выбросивший ее из машины, точно надоевшую куклу. Чтобы она стреляла? Но как? Она не умеет. - Сюда нажимать? – спросила она. - Да. Это собачка. Состояние было странное. Немного кружилась голова, и от страха покалывало в селезенке. А Михо стоит и улыбается. Думает, Иринэ – ничтожество, ни на что не способное. Он думает, Иринэ не выстрелит, и он опять надругается над ней. Нет, нет! Иринэ не боится урагана, она сумеет отомстить за оскорбление. Она направила пистолет на Михо, только чуть-чуть в сторону, и сначала одной, а потом двумя руками надавила на курок. Раздался грохот. Деревья поплыли у Иринэ перед глазами. Значит, пистолет действительно был заряжен? Что же она наделала! Мамочка, а вдруг я убила человека?! Мамочка, а вдруг я убила рыжего незнакомца?! Почему я не слушалась тебя, мамочка! Но Михо все так же стоит и улыбается. Пуля его ни чуточки не задела. Промазала? Промазала с такого расстояния?! - Ты… ты жив? – Иринэ выронила пистолет и заплакала. Ну, теперь ее боевой запал кончился. Михо шагнул к девушке и обнял за худенькие плечи. Вот это темперамент! Вот это хищница! - Ну чего ты, Малыш? Испугался? – он поцеловал ее в лоб. – А я думал, ты взрослый…
10
Вахтанга у себя не оказалось. Михо отвез его жене ключи от машины и в нерешительности остановился на улице. Было только начало десятого – впереди целый вечер. Идти домой, где нуждаются в твоем внимании и сочувствии, а у тебя нет сил? Уж лучше он отправится в гости к школьному приятелю, давно обещал. Но и в гости не хочется, не то настроение. Кончился запал, сошел на нет азарт, Михо отлежаться бы где-нибудь в берлоге одному-одиношеньку, но такого места нет, к сожалению. Дома Михо появился без десяти десять – намного раньше обычного. Мать обрадовано хлопотала вокруг, предложила поужинать, но он рассеянно отказался, лег перед телевизором с газетой в руках и задремал. «Бедный мальчик, через день ночные выезды!» - мать накрыла Михо пледом и, стараясь не шуметь, вышла на кухню. Михо снилась зима. Артиллеристское орудие попало в цель, и он стоит посреди зимней пустыни с развороченной снарядом грудной клеткой. Дрожащее, озябшее сердце его тонкой пленкой обволакивает снег. Пленка стягивает сердце, тяжелит его – сердце уже не в силах биться. Оно вот-вот замрет и оледенеет, как пустыня вокруг. - Я умру? – спрашивает он у неведомо откуда взявшейся Иринэ. - А разве ты жив? – отзывается она голубыми губами. Михо старается понять, жив ли он на самом деле, но никак не может вспомнить, что чувствуют живые. И вдруг вспоминает: живые чувствуют на лице солнышко и любуются свежими, только что народившимися листочками. Рядом мама с папой, ты часть их, а они часть солнышка и листьев. И вы все вместе огромная радостная вселенная. - Это ты застрелила меня? – говорит он Иринэ. - Ха-ха! – смеется девушка. – Никто тебя не убивал, ты самоубийца! И вдруг Михо обнаруживает себя в зале судебных заседаний, где на скамье подсудимых сидят, прижавшись друг к другу, его родители. Отец виновато наклонил голову и взглядывает грустно и нежно, словно сейчас начнет читать стихи. Мама кутается в горностаевую шубу, нервно поглаживает шею, которая удлиняется, удлиняется… Из шубы выскальзывает большая белая птица и летит над деревьями, горами, поднимается выше облаков… И тут выясняется, что она все еще в зале судебных заседаний. Птица ударяется о деревянные перила, отделяющие преступников от остальных людей, и падает. Шея ее ломается. Она лежит на паркете, растеряв оперение. Мамина шуба развалилась на скамье для публики, наискосок от Михо. Пустые рукава аплодируют падению птицы. «Это сон, - думает Михо во сне. – Был суд, была мама, похожая на птицу с перебитой шеей… Только что-то перепуталось в голове. И странно, что я давно мертв, а все вижу». И тут он действительно увидел, как было дело. Они с мамой возвращаются из суда. Завтра папе объявят приговор, сегодня адвокат обнадежил: «Можно рассчитывать на пять лет». Мама моет посуду, ворчит на Кроху за неприготовленные уроки. Михо следит за ней и не понимает ее поведения: бессмысленная суета! Мама опускается на табуретку и говорит досадливо: - У тети Веры давление. Сегодня вы ночуете у нее. - Хочешь от нас избавиться? – язвительно любопытствует Михо. - Никуда не пойду! – протестует Кроха. - От вас избавиться? – неестественно изумляется мама. – Мы с папой для вас все… мы с папой не заслужили… - Вы нам будущее испортили! – взрывается Михо. – После этого суда мне не быть прокурором! - А мне летчиком, - вздыхает Кроха. Мама переводит взгляд с одного на другого и озабоченно качает головой. - Давайте отправим вас на каникулы к бабушке с дедушкой, - легкомысленно предлагает она. – На свежем воздухе жизнь веселее. - Я уже неделю не числюсь в университете, - кричит Михо. – О каких каникулах ты говоришь?! – и сквозь зубы, со злобой: - Дура! Мама отворачивается к окну, плечи ее ходят ходуном. - Мы идем к тете Вере! – пугается происходящего Кроха. Он натягивает куртку, но никак не попадает в рукав и возится, возится… - Михо не хотел тебя обидеть. Он добрый, ты знаешь… Мама улыбается им сквозь слезы и целует каждого в щеку. На автобусной остановке обнаруживается, что у них восемь копеек на двоих. Они стоят и обсуждают, идти к тете Вере пешком или вернуться домой за деньгами. В конце концов, они возвращаются. Мамы в комнатах нет, она в ванной. Наверное, купается. Кроха находит мамин кошелек и достает рублевку. - Мама, мы у тебя рубль взяли! – кричит Михо в закрытую дверь ванной. Тишина. - И вода не льется, - удивляется Кроха. – А вдруг ей плохо с сердцем? Они начинают дергать дверь, и из ванной доносится грохот. Они накидываются на дверь еще яростнее. Трещит дерево… Мама висит в петле, как птица с перебитой шеей. В руке у Михо нож, он пытается перетереть веревку, но она очень прочная. - Осторожно. Она упадет и ударится, - говорит Кроха. - А ну за тетей Тамарой с первого этажа! Быстрее, сопля! Кроха не обижается. Он все понимает.
Едкий запах нашатыря. Тетя Тамара со шприцем в руках. Тазы с водой. - Мальчики помогите стащить с нее туфли и чулки. - Мама не разрешает трогать ее одежду, - упрямится Кроха. Мама дышит. Тетя Тамара заставляет ее пить. Скорую решили не вызывать, вроде успели вовремя. - Тамарочка, он мне на день рождения горностаевую шубу подарил… - плачет мама. – А на суде сказали, что шуба – это взятка… взятка за… - она не может договорить, задыхается. - Жизни ты не видела! – отрезает тетя Тамара. – Распускаешь слюни из-за всякой ерунды. Шубы твои кончились. Теперь о передачах в тюрьму надо думать. - Ты нас с Крохой хотела бросить одних! – кричит Михо. - Молчи, - толкает его брат. – К тете Вере пошлет.
Возвращение из сна было трудным. Михо то выталкивало наверх, то опять тащило в глубину, где металась в зале суда большая белая птица и где он презирал и ненавидел себя. Наконец на поверхности дремы зажурчали голоса, и он проснулся. За столом ужинали родители. - Надо вернуть Луизе деньги, - вполголоса убеждала мать. - Зачем ей так срочно? – недовольно удивлялся отец. Они замолчали, и Михо подумал, что до отцовского ареста он не представлял их беседующими о земном. Отец был самым перспективным начальником управления в министерстве, мама – ценительница прекрасного – самозабвенно играла на фортепиано. Дом вела няня Люба, а папа с мамой водили Михо на концерты в консерваторию, читали ему по очереди классическую поэзию и хватались за голову, услышав от него слово «кретин». - Я просила подождать, но она настаивает, - нарушила молчание мама. - Сколько ты ей должна? - Семьсот. - Откуда я возьму такую сумму?! Да, до заключения такого разговора не могло быть. Отец легко раздражается, хуже относится к маме. Не может пережить семнадцати тысяч долга, образовавшегося за время его отсутствия. А мог бы не так сердиться: и сам тянул из нее деньги при каждом свидании, и на поступлении в институт Крохи настаивал. Да и начался долг с оплаты услуг адвоката. Потом было еще несколько защитников, один другого знаменитее и дороже. Были начальник колонии, кто-то рангом пониже, но очень влиятельный, врач из тюремной больницы… Неужели отец надеялся, что все само собой рассосется и расходы уложатся в малюсенькую зарплату учительницы музыки? - У Веры есть пятьсот рублей на сберкнижке, - продолжала спорить мама. - Последние, - возражал отец. – Не могу же я оставить сестру без копейки! - Но ты же вернешь! - Из каких доходов?! Ну вот. Накричал-таки. А мама смотрит, словно побитая собачонка, и молчит. И все из-за паршивых денег! Если бы Михо мог отдать хоть часть долга, он не спасовал бы ни перед какими трудностями. Но зарабатывать он стал не так давно: сначала армия, потом дополучал образование. Сейчас приносит матери практически всю зарплату, сидит на копейках, отказывает себе в самом необходимом, а ситуация никак не разруливается. Скорее бы и брат начал зарабатывать, может, все вместе они как-нибудь расплатятся? Плечо ломит, под мышкой будто костер развели. Недаром Михо снилось, что у него разворочена снарядом грудная клетка. Неужели заработал инфаркт? Только этой беды семье не хватало! К семейным скандалам он привык. И к противному, сосущему чувству беспомощности тоже. Надо бы стукнуть по столу и заставить родителей обменять квартиру на меньшую в спальном районе. Но куда тогда денется мамин рояль? Михо не пережить больше маминого отчаяния.
Да, прогулка с Иринэ обошлась ему дорого. Ни одна девчонка того не стоит!.. Хотя, наверное, он не прав. Без таких приключений жизнь превратится в надоедливую шарманку. Иринэ – девчонка особенная, в ней больше от детеныша, чем от женщины. Может, поэтому она и нравится Михо. Эти умопомрачительные искренность и доверчивость, и юность, юность в каждом движении, каждом жесте. Как она обиделась, когда Михо объяснил, что пистолет стартовый и из него никого нельзя убить, хотя обжечься, конечно, можно. Она чуть не выскочила из автомобиля на скорости в восемьдесят километров в час. Михо пришлось употребить всю свою силу, чтобы удержать ее в машине. Теперь она окончательно возненавидела его. И кто тянул за язык! Пусть бы девчонка и дальше воображала, что он герой и супермен. Так нет, сидит в нем чертик, подзуживающий уличить глупость, высмеять, уколоть. Зачем ему надо было вызывать в ней отвращение к себе? Что за идиотский характер! Ладно. Забыли. Все хорошо, что хорошо кончается. Девчонке он показал себя во всей красе, теперь она к нему не сунется. Можно и дальше тянуть свою упряжку, не перегруженную ни счастьем, ни горем, нормальную упряжку тридцатидвухлетнего мужчины, не старика и не инвалида. Подставляй шею под ярмо, Михо! Подставляй, чтобы удобнее ехалось начальству, друзьям, подругам, родственникам, недоброжелателям, наконец. И опять начальству, и опять друзьям… А на душе пусто. - Я зверь, - сказал себе Михо. – Не заметил, как стал зверем. С генами передалось, что ли?
- Михо проснулся! – мама вскочила из-за стола. – Давай ужинать! - Да сиди ты, неугомонная! – одернул ее отец и вежливо поинтересовался у сына: - Как дела на работе? - Обыкновенный сумасшедший дом. - Сумасшедший дом не бывает обыкновенным, - назидательно сообщил отец и надкусил ломтик маминого пирога. – Вкусно. Ты бы попробовал. От костра под мышкой остались только тлеющие угольки. Михо осторожно встал с дивана, сделал несколько шагов к телевизору, увеличил звук и подошел к обеденному столу. - Супу согреть? - Да нет, чаю попью, - он опустился на стул рядом с отцом. Мама побежала на кухню. По телевизору шел художественный фильм. Опять производственные проблемы заставили передовика сражаться с ретроградами. - У тебя послезавтра зарплата? – небрежно поинтересовался отец. - Отдам. Правда, долг небольшой образовался. Остальное в семью. Отец удовлетворенно кивнул и залез ложкой в сахарницу. На белую манжету его сорочки упала тень от абажура. Михо почудилось, что это не тень вовсе, а паутина. - Ой, Тамази, на эту картину нас водили в выпускном классе! – ахнула мама и пролила на пол чай. – Там они ловят на месте преступления врага народа! - И вас водили? – дурашливо возмутился папа. – Сопливых девчонок на мужское кино! Вот так они всегда! И смех и грех с ними. Дети – не дети, взрослые – не взрослые. Погружены друг в друга и счастливы.
В тот день отца вызвали на допрос в прокуратуру и там арестовали. Вечером милицейская бригада с ордером на обыск привезла его домой, и студент второго курса юридического факультета Михо с ужасом наблюдал, как отец по-стариковски проковылял в спальню, рухнул на колени и достал из-под шкафа железную коробку. На белой манжете отцовской сорочки лохмотьями повисла паутина. - Теперь тайник за трубой в клозете, - сказал следователь. Мама закрыла лицо руками. - Да что ты, лютик мой… - сдавленным голосом произнес отец, растягивая губы в улыбке, и провел по лбу рукавом с паутиной. – Ты не знала, потому что это был сюрприз к празднику. Паутина лезла ему в глаза, он сбрасывал ее на пол и тянул-тянул губы в улыбке, а следователь торопил его идти в уборную. Михо было стыдно за отца, стыдно за мать, но еще более стыдно было за себя, обманутого. А какими честными мы прикидывались! - Нехорошо врать мамочке!.. Ка-ак? Ты не вымыл руки, и уже обедаешь?!.. Ты мог произнести такое слово в приличном обществе?!.. Чистюли проклятые!
- Почему ты такой бледный? – мать взяла Михо за запястье. – Тамази, послушай какой у него пульс! - Ерунда! – Михо вырвал руку. – Пройдет! - Как же так? – растерянно бормотала мама. – Ты вроде здоровый мальчик… Вот капли, выпей на всякий случай… Тамази, скажи ему, чтобы выпил!.. Оттого, что мать бегала и суетилась, Михо стало совсем нехорошо. Ему все труднее было сопротивляться ее настойчивой нервной силе. В ушах тягуче и знойно зазвенело, такой звон стоит летом за городом, - кажется, трава, цветы, насекомые плавятся на солнце и превращаются в поющую медь. Мальчиком Михо любил слушать голос земли. Он был живой и чувствовал, как живой. Он не стеснялся быть частью существовавшего вне него, не противопоставлял себя внешнему, не пытался возвыситься над ним. А потом наступила зима, и он забыл этот летний звон… Наверное, у него было счастливое детство… И глупое было, наверное…
После обыска в доме, когда про арест отца узнали знакомые, с Михо встретился замминистра, папин товарищ. Он посоветовал Михо бросить юрфак и идти в армию, потому что с юридическим образованием и судимостью отца он никто, а вернется из армии, его легко восстановят в университете, и у папиных товарищей будет основание ему помочь. Восемнадцатилетний Михо никак не мог поверить, что может быть никем он, умный, образованный, сильный, но в деканат зашел следователь и стал выспрашивать, с какими оценками он поступил и как учится. Поползли сплетни. На экзамене по специальности Михо занизили оценку. Он обиделся и забрал документы из университета. Потом были унижение судом, мама в петле в ванной, бесправие солдатской дисциплины и офицерская жена, выбравшая его, как барана из стада. Михо еще потешил свою гордость: поступил в политехнический институт. Без протекции, когда другие сдавали по записочкам. Но ехать по распределению в неведомые дали ему было уж точно не с руки, и мама посетила замминистра. Так Михо попал в судебную экспертизу, благо, что отец уже вышел на свободу, и его друзья позаботились, чтобы упоминание о судимости исчезло из его анкеты. Вот Михо и работает. Получает благодарности. Не берет взяток. Но что-то с ним все-таки приключилось. Сам не понял, как превратился в зверя, умного, образованного сильного. Мама не отстает. Все-таки протолкнула ему в рот таблетку валидола. Будто валидол спасает от смерти духовной! Из какой такой жизни вылупились его родители, что никак не могут разобраться в этой? Блаженненькие! Юродивые! Святые с прилипшими к ладошкам крадеными кусочками пирога! Господи, как он ненавидит себя за любовь к ним! Почему он должен переносить эти материнские кротость и суетливость? Зачем ему знать, как ноет отцовское самолюбие, когда он выпрашивает у родственников деньги. Он, привыкший быть хозяином многих и многих! А тут еще попала под руку дурочка Иринэ. Взяла пистолет, шарахнула по сердцу. В пробитую брешь ворвалась вся эта свора потерпевших и обиженных и рвет акульими зубами то, что осталось от души. - Надо что-то делать, Тамази! – закричала мама над самым ухом. – Скорее беги за Тамарой!
11
Иринэ открыла глаза и тут же вскочила на ноги. Ой, утро наступило! Какое натянуть сегодня платье? Черное надоело, на синем в горошек пятно на юбке, в голубом распоролся пояс. Красное, конечно, красное! Мамуля будет заставлять одеть черное – траур еще не кончился, нужно таскаться, как чучело, целый год. А Иринэ выйдет на улицу в красном платье. В красном, в красном, в красном! Прямо в ночнушке она понеслась в родительскую спальню и залезла под одеяло к матери. - Спозаранку неймется! – проворчала с соседней кровати бабушка. - Дато вчера виноград прислал, как ты любишь… - мамуля погладила ее по спине. – А ты вечером и разговаривать не захотела. Улеглась спать. Чем вы там, в своем драмкружке, занимаетесь? На тебе лица не было. - Мы новую пьесу разучиваем – блеск! Представляешь, он увозит ее за город и объясняется в любви. Я, говорит, дурной, грубый, ты, говорит, меня прости. Но ты тоже виновата: лезешь в забияки, не умея драться… - Это что-то новенькое, чтобы ради таких объяснений за город возили! – не поверила бабушка. – Современные писаки только о девицах легкого поведения и сочиняют! - Ты с ребенком разговариваешь! – укорила ее Нуну. Бабушка рассерженно фыркнула и начала, кряхтя, слезать с кровати. - Чем замечания матери делать, на себя посмотрела бы! Алкоголичка – не алкоголичка, а уж наркоманка точно! Иринэ заметила, что лицо у мамули отекшее, глаза смотрят будто неживые. - Опять люминала объелась! – ахнула она. - Ты с твоей мамашей романтики! – съязвила бабушка. – Умом пораскинуть лень, так люминалом душу лечим! Иринэ стало жаль мамулю, захотелось поделиться с ней странным своим состоянием, когда кажется, что ты ничего не весишь и паришь, паришь в воздухе упругой искристой дождинкой… Михо наверняка втюрился в меня, а иначе зачем ему надо было придумывать этот чудовищный пистолет, а потом каяться… И глаза у него ласковые, а волосы рыжие-рыжие и вьются колечками. Какой он красивый, рыжий незнакомец! Но делиться с мамулей Михо было нельзя, потому что Михо – тайна. Тайну надо спасти от скрипучих бабушкиных замечаний и маминого страха за ненаглядную доченьку. Мамуля готова защищать от нападения, даже когда нападения нет. Странно: мамуля добра желает, а все портит… - Сегодня я зайду к твоей старухе! – горячо сказала Иринэ. – Вчера так получилось. - Какая старуха? – всполошилась бабушка. – Почему мне не сказали о старухе?! - Бывшая сослуживица. Просила помочь с документами. – Нуну села на постели. – Вставать надо, а сил нет. Ты ведь какая, Иринэ, - не приготовишь тебе завтрак, убежишь голодная… - А вот и неправда! Я за тобой ухаживать буду! Иринэ вскочила, подбежала к дверям на террасу и рванула их на себя. Спальня наполнилась осенним солнцем и веселым дворовым гвалтом. Ураган, ураган! Не боюсь я тебя! Нет больше темноты в пакете с крупой, нет разжиревшего семейства жуков, жующего, жующего, жующего... Иринэ птица! Она облачится сегодня в красное платье, повяжет на шею драгоценную свою косыночку и выпорхнет на свободу. Она полетит в университет самой красивой из бабочек-однодневок, и сокурсники задохнутся от восхищения. Они наперебой начнут ухаживать за Иринэ, а Иринэ одолжит у Михо пистолет и – бах-бах-бах – распугает всех этих идиотиков! - Это ты на своем драмкружке синяк заработала? – вернула ее на землю бабушка. – Моя дочь так занята собой, что упустила ребенка! Иринэ проследила за ее взглядом и увидела на своей левой руке, чуть выше локтя, синие пятнышки. - Я о парту ударилась! – вскрикнула она и спрятала руку за спину. - Как же о парту! Там следы пальцев! Нуну тяжело вздохнула, провела ладонями по лицу, встряхнула головой. - Покажи, солнышко! – попросила она. Иринэ резанула жалкая нотка в ее голосе, непривычная, заискивающая. Девушке отчего-то захотелось плакать, она подошла к матери, села рядом и прижалась лбом к ее неспокойно подрагивающему плечу. Нуну отстранила ее, осмотрела синяк и подняла на Иринэ красные, больные глаза: - Кто тебя хватал за руки? - Никто. - Не ври. Ты врать не умеешь. - А ты умеешь? - Одевайся и веди ее к медэксперту! – возмутилась бабушка. – Нашла с кем демократию разводить! - Я не пойду к медэксперту! Я вообще никуда не пойду! – взвизгнула Иринэ. – Я… я… я на лекции опаздываю! - Нуну, что ты ей позволяешь?! - Этот твой… рыжий… - губы матери едва шевелились, потухшие зрачки стали совсем мертвыми. – Он тебя изнасиловал?.. Ты дурочка у меня, тебя любой… - Вы все выдумали! – захлебнулась ужасом Иринэ. – Вы все про меня выдумали! Я от вас… Я замуж от вас убегу! Она оттолкнула мать и понеслась в свою комнату – плакать. Нуну сидела несколько минут неподвижно, потом повалилась на постель и сложила руки на груди крестом. - Мне бы, как Бадри… - Ну что, допереживалась? – желчно спросила мать.
Вечером врач вколол Михо обойму лекарств и запретил вставать, а утром больной, как ни в чем не бывало, отправился на работу. Не помогли ни слезы матери, ни приказы отца. Он не барышня, чтобы носиться с сердечком как с писаной торбой! Сердце больше не болело, но отчего-то подгибались ноги, немного кружилась голова. Ничего, не из таких передряг выбирались! Михо зашел в свой рабочий кабинет, сделал небольшую зарядку и сел писать экспертное заключение. Посторонние мысли оставили его. Только спектрограмма на фотографии. Только элементный состав автомобильной лакокраски. В полдень Кроха принес лекарство и заставил выпить. Михо несколько минут поболтал с братом, вызвался достать ему два билета на футбол, матч обещал быть интересным, и взамен потребовал, чтобы Кроха отобедал дома: - Когда ты ешь, мама становится счастливая! Кроха напомнил, что ему уже двадцать лет, что у него есть любимая девушка и что внимания ей надо побольше, чем маме. - Но от билетов не откажусь, и мама вкусно готовит, - закончил он и отбыл для исполнения задания. Михо постоял около окна, понаблюдал сверху за шагающим по тротуару Крохой и засмеялся. У него было светло на душе. Наконец он дописал заключение и отнес его машинистке. Так… Заключение с плеч долой! Что там еще в журнале? Образцы ворса? Берем в сейфе образцы ворса… В четыре появилась Иринэ. Она запыхалась и лепетала что-то невразумительное о том, что домашние заперли ее в комнате, а она возьми и выпрыгни из окна, да прямо в руки к сердитому соседу, который начал на нее кричать и позвал мамулю, а Иринэ все равно убежала. Непонятные эти девчонки! То на полном ходу из автомобиля выскакивают, то сами являются к тебе на работу. А, впрочем, чего непонятного? Балованные взбалмошные кокетки! Но что-то в них есть, в кокетках, если после встречи с ними становится веселее жить. - Ты одолжишь мне пистолет? - Для чего? – остолбенел Михо. - Меня на курсе ни в грош не ставят, а с пистолетом, как пить дать, зауважают. - Малолетка криминальная! Иринэ посмотрела на него то ли жалобно, то ли огорченно. - Ну, я пошла, - сказала она и осталась сидеть. - Куда? Она пожала плечами. - Я тебе совсем не нравлюсь? – глаза ее наполнились слезами, и она отвернулась. - Ладно, не реви. Насчет криминальной малолетки я пошутил. Ничего не происходило. Он пододвинул образцы ворса и опять принялся за работу. Иринэ облокотилась на стол, положила подбородок на узкие ладошки и застыла в позе ожидания. Точь-в-точь преданный пес у стула хозяина. «Говорил, что подпустишь к себе только ребенка или собаку, судьба подслушала и выслала гибрид, - усмехнулся про себя Михо. – Посылка прибыла. И что ты теперь будешь с нею делать?» Время приближалось к шести. Он спрятал образцы ворса в сейф, одел куртку и, кинув через плечо: «Пошли!», направился к выходу. Иринэ покорно поплелась за ним. Они вышли на улицу и зашагали куда глаза глядят. У него руки в карманах, она вцепилась в сумочку, он смотрит на проезжающий мимо транспорт, она на гору вдалеке. Шли рядом, не касаясь друг друга, без единого слова. Около ипподрома Михо остановился. - Ты знаешь, что я на пятнадцать лет тебя старше, и знаю про жизнь гораздо больше тебя? - Ну и что? – отозвалась Иринэ. - У меня не забалуешь, из окон не попрыгаешь... И характер у меня тяжелый. Она пожала плечами. - У моей семьи нет денег, нет автомобиля, скоро не будет приличной квартиры, а долг, скорее всего, останется. - Ты… ты меня не любишь? – глаза Иринэ снова наполнились влагой. - Это тебе не игрушки! Ты понимаешь, во что нас втягиваешь? – Хочешь меня прогнать? - Господи! Она любое дерьмо подберет! Он двинулся дальше, а она осталась стоять у забора, с опущенными плечами, похожая на озябшего воробушка. - И откуда ты взялась на мою голову! – Михо вернулся, зажал ее пальчики в ладони и спрятал себе в карман. – Тебе не холодно? - Холодно? С рукой в твоем кармане? Очень тепло. - Кто вас, тепличных, знает? Только давай без обмороков и стенаний!
12
Половина десятого, а Иринэ все нет. Вчера она пришла с синяками, сегодня выпрыгнула из окна. Где ее искать? Тревожно. Что-то творится с ребенком. Дурная компания?.. А вдруг наркотики? Кто знает, как себя проявляют эти наркотики, когда ребенок только подсел на них… В домоуправлении рассказывали, в третьем номере парнишка лет семнадцати умер прямо на лестнице. Надо было посмотреть обе руки – вдруг синяки от уколов… Нуну застонала и села на кровати. - А от уколов какие синяки? – спросила она у матери. - Будто не знаешь! – охотно отозвалась мать. – Упустила ребенка, вот и терзайся теперь! Нуну заплакала. - Ты же видишь, она совсем одичала… Безотцовщина… Я с ней не справляюсь… - Ты и с блохой не справишься! – мать поднялась из-за столика, на котором раскладывала пасьянс, доковыляла до постели Нуну. – Вставай! – резко скомандовала она. Нуну автоматически спустила ноги на пол, взяла со стула свое нижнее белье и принялась одеваться. Горе мое, Бадри, что ты сделал со мной… - Телефоны ее близких подруг у тебя есть? – потребовала мать. - Может, она к старухе пошла? – выдавила Нуну. – И она, как Бадри… - К какой старухе? - К любовнице Бадри. - Ты, дура, послала? - Я думала... - Послала ребенка в бордель и теперь удивляешься, что у него синяки?! - Нет! – вскрикнула Нуну. – Я там была! Не может быть! – но через минуту ошарашено добавила: - Она и вчера собиралась к старухе… - И пришла с синяками, - удовлетворенно кивнула мать. - Неужели Иринэ и вчера… - Нуну в ужасе заметалась, выкрикивая что-то нечленораздельное. – Она отомстила Бадри! Она надругалась над девочкой, чтобы наказать отца! – схватила кошелек и выбежала на улицу.
Ох, худо, худо! Старуха опустилась на негнущиеся колени перед иконами, коснулась лбом ледяного пола и превратилась в статую отчаяния, статую-судорогу, статую-муку. Что мне до рабов, пусть рабствуют в свое удовольствие! Что мне до слепцов, пусть упиваются своей слепотой! Почему нет покоя моей душе? Неужели грех мой так велик, что перевешивает он страдания мои, Господи? Я начала забывать голос Гогиты, я начала забывать голос матери и тоскливую песню ее. Я начала забывать, для чего вижу пол, стены, столетник на плите… И только золотой дождь… Золотой дождь преследует меня… Неужели пыль сильнее тебя, Господи? Или… или Ты сам, как пыль?.. Я не отличаю правды от лжи, чему я могу научить рабов, Господи? Я не выдержала испытания и достойна ада, где нет Гогиты и нет Тебя. Как Гогита умел терпеть… Накажи меня адом и любой другой мукой, но только не тем сомнением, что точит меня, как червь дерево. Не дай мне поверить, не дай мне поверить, Господи, что сам ты тиран и караешь меня за то, что я не раба! Ох, худо мне, худо… Тело старухи занемело, стало холодным и непослушным, и она подумала, что смерть, наконец, явилась за ней. Она стала ждать освобождения, открылась небу, но… Что-то отвлекало ее от смерти, что-то снова и снова требовало ее внимания и возвращало в холодное неуютное тело. В дверь звонят, поняла она. Звонят упорно. Кому она может быть нужна? «Пусть звонят, - решила старуха. - Я умерла и не могу открыть». Посетитель никак не уходил, он трезвонил и трезвонил без умолку, потом начал колотить в дверь. Старуха подняла голову, двинула плечом. Будь проклят Ты, Господи, за Твое жестокосердие! И это Ты называешь милостью к падшему? Будь проклят Ты, Господи, хоть и проклинаю я с Тобою вместе себя саму! - Где моя дочь?! – Нуну колотила дрожь. – Где Иринэ?! – она оттолкнула старуху, ворвалась в коридор, оттуда бросилась в комнату, потом на кухню, заглянула на балкон и в туалет. Иринэ нигде не было. – Где моя дочь?! – рыдания душили ее. – Где моя дочь?! Она сделала резкое движение, зацепилась носком за отошедший от стены плинтус и упала. Отекшие неуклюжие ноги разметало в разные стороны, голова больно стукнулась о косяк. Старуха смотрела на нее сверху вниз, и ни один мускул не дрогнул на ее каменном лице. Как судья, как рок, как безумие. - Я тебя убью! – крикнула Нуну ненавистной сопернице. – Я тебя убью и освобожусь! Она с трудом поднялась, хватаясь руками за стены. Сделала шаг, второй и оказалась на кухне. Первый ящичек развалился у нее в руках, он был пуст. В другом лежало несколько салфеток. Нож. Такой, как ей нужен, - длинный, острый. Сейчас соперница испугается, сейчас начнет говорить… - Я тебя убью! Старуха стояла перед ней спокойная, прямая. - Прекрати истерику, рабыня! – презрительно приказала она. – Разве я не вижу, что ты меня боишься! - Я боюсь? – изумилась Нуну и забыла про нож. – Откуда вы узнали, что я боюсь? Старуха не ответила. - Какое же я ничтожество… боюсь тебя… - что-то влажное просочилось из-под волос на шею. Нуну коснулась влаги пальцем и поднесла палец к глазам. – Смотри, кровь… Голову разбила… - она улыбнулась беспомощной и виноватой улыбкой и вдруг стала похожа на дочь. – Иринэ убежала, бросила… Мама говорит, будто я сама ей позволила, но я не позволяла… Не мучай меня, смилуйся... расскажи, что у тебя с Бадри… «И в ней есть что-то от золотого дождя…» - поразилась старуха. Она подошла к Нуну, разжала ее кулак и вынула нож. На ладони остался порез – тяжелые красные капли обозначали его. - Ну и неумеха ты, рабыня! Ни поплакать над мужем, ни убить толком не способна. Ранишь себя больше, чем других. И опять виноватая улыбка. И опять беспомощный и молящий взгляд. Грех, грех тебе, старуха! Ты-то убивать умеешь! Эта никчемная женщина чиста сердцем, потому и сохранил Господь ее дитя, девочку, подобную золотому дождю! Ты гордая, ты и у Бога не просишь, а требуешь, а она – точно олень перед дулом охотника, невинная и прекрасная… Она поверит каждому твоему слову, она доверяет тебе, считая врагом. А ты не только людям, Богу доверять не умеешь. Господи, как только не разорвется мое проклятое сердце! - Сына я оплакивала на твоей панихиде, сестра, - сказала старуха, - сына усопшего своего. - У Бадри был сын? – прошептала Нуну. - Не было у Бадри сына от чужой женщины, не было, бедняжка! Приревновала ко мне мужа… Господь с тобой, мученица! Она достала из духовки бутылочку с йодом, намочила краешек кухонного полотенца и принялась обрабатывать раны Нуну. - По панихидам я к незнакомым хожу. Выплакиваю, что на похоронах Гогиты не доплакала. На полу сплю, чтобы мягче его не спать, пустой хлеб ем, чтобы слаще его не есть… Виновата перед ним, виновата… У тебя дети живы. Грех убиваться , беду на них накликать! - Нужна я детям! – Нуну всхлипнула. – Иринэ убежала к какому-то рыжему. Он ей синяки на руках ставит! - А ты к Бадри своему не бегала? Или не ставил он тебе синяки? Рабыня, настоящая рабыня. Что в ней такого? Что делает ее выше старухи? Что поднимает к Богу неумеху и грешницу? Ничего не понимает старуха, склонившаяся над разбитой головой женщины, которая никогда не знала свободы и истины и все равно мудрее ее. Ее, жаждущей свободы и истины и все равно не нашедшей их. Ничего не понимает старуха и вслушивается в шум своей крови, не шум даже, а грохот, похожий на гром проигранной войны. Блаженны терпящие поражение, ибо с ними Господь! Блаженны не умеющие приспосабливаться, ибо дом их не на этой земле! Воистину правда Божья подобна матрешке, но только внутренняя матрешка не меньше той, что снаружи… - Все душа в синяках, - вздохнула Нуну.
«Влип, - думал Михо. – Влип по уши. Влюбился чуть-чуть, а последствий на полную катушку. Отправить ее домой не по-мужски – выпрыгнула из окна и возвращаться не желает. Привести к себе невозможно: родители ошалеют, мать и так непонятно, в чем душа держится. Оставить на ночь у какой-нибудь подруги? А сумею уговорить? Считает себя, должно быть, замужней дамой уже. Родные ее, наверное, все морги обегали… Связался с девчонкой, дурак!» Они ехали в автобусе. Иринэ дремала у Михо на плече, доверчиво уткнувшись носом в воротник его куртки. Пушистые ресницы отбрасывали на лицо тени-паутинки. Пухлые губы розово улыбались, тонкие, как соломинки, пальчики касались его большой ладони и тонули в ней. - Малыш, - позвал Михо и сглотнул слюну. – Малыш, куда тебя отвезти? Вернешься домой? Иринэ распахнула глаза и вскочила, чуть не сбив с ног женщину, проходившую к водителю. Секунду она непонимающим взглядом смотрела на Михо, потом тело ее расслабилось, и она опустилась на скамейку. - Мне показалось, что рядом не ты, а одна старуха… - Иринэ поежилась. – Эту старуху мамуля боится, а отец ее в любовницах держал… Это очень приятно, любовница, или для мужчин она вроде медали за храбрость? – она посмотрела на него вопросительно и нежно. – Ты ведь не променяешь меня на любовницу? Михо отрицательно покачал головой и засмеялся. Какая же ты прелесть, Малыш! - Знаешь. А ты мне снился! – вдруг вспомнила Иринэ. – Никто никогда не снился, а ты и во сне, и наяву! – она на минуту притихла, точь-в-точь ребенок, задумавший новую игру. – Я твою маму буду мамулей называть, можно? Михо опять засмеялся и сказал: - Все равно сначала надо к тебе домой, сегодня ко мне не получится. Можешь еще поспать, до дома ехать и ехать… Иринэ положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Она никак не могла решить, ураган ли она искала или нового сторожа для своего пакета-убежища. Папа исчез, Михо явился, а она опять ослепнет и оглохнет, как жук в крупе, до нового взрыва, до нового урагана. - Ой, а мамуля, наверное, волнуется… - прошептала она и заснула. И приснился ей сон про ураган и старуху. И мамуля сердилась на нее за что-то и грозила разлюбить за непослушание. - А я все равно сделаю! – сказала Иринэ в своем сне и упрямо тряхнула головой. – И ты все равно любить меня будешь, побоишься, что на луну умотаю! И она взмахнула крыльями и взлетела высоко-высоко, откуда мамуля казалась песчинкой среди тысяч подобных ей, и Иринэ стало больно, что мамуля песчинка. Она сложила крылья и ринулась вниз.
А в это время на крохотной убогой кухне распускали волосы две седые женщины, и карликовое деревце, готовое осыпать землю листьями, как они волосами, понимало, что это осень заставляет их распускать. - На кого вы покинули нас, любимые? На кого вы покинули нас, родные? – причитали женщины, и деревце вторило им скрипом и шепотом своим. – Разве мало мы вас любили, Бадри, Гогита? Разве не было прощения в наших сердцах? Почему вы покинули нас, Бадри, Гогита? На одиночество покинули, на тоску, на безнадежность. Не забывайте нас, Бадри. Гогита. Мы еще встретимся, только подождите… Горе, горе… Деревце стукнуло веткой в стекло и уронило первый лист.
Повесть опубликована в литературно-художественном журнале "Новая литература".
Философская проза Ирины Лежава. Что еще почитать: стр:
|
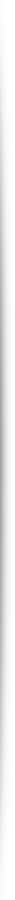
|