

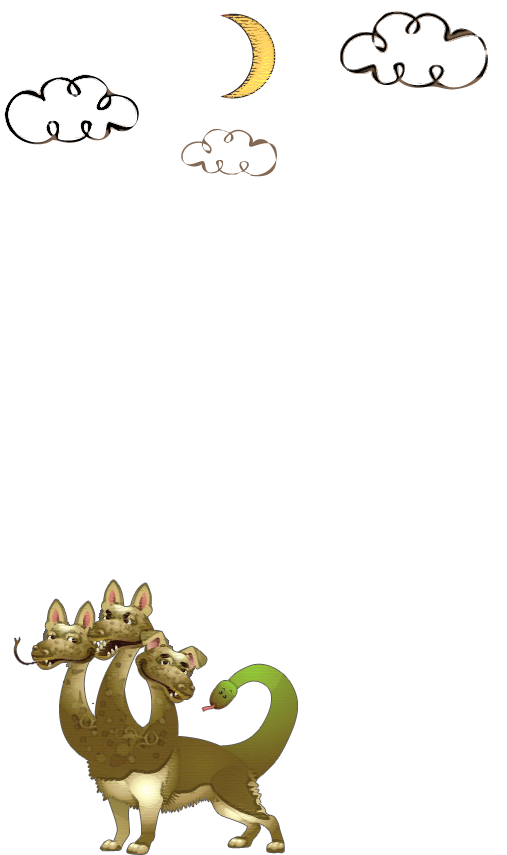
|
Вернуться
Комментарии Философская проза жизни Ангел я неопытный. Слишком малое время нахожусь в бесплотной ипостаси. А до того подряд целых три жизни раз за разом отрекался от мирских занятий ради монашеского служения вышнему. И в последнем телесном своём воплощении принял мученическую смерть от руки непримиримого богоборца. Если честно, с убийцей мне несказанно повезло. Без его жестокого насилия разве сумел бы я свершить подвиг во славу Господню и продвинуться по духовному пути? Превозмогая боль, до последнего вздоха молился я за своего губителя, а это достойный поступок. Для кротких врата в царствие небесное всегда открыты. А другим в него едва ли попасть — много званых, да мало избранных безвинно за грехи человеческие страдать! Выделился я из тела, не уставая призывать Божью милость ко всем грешникам, нечистой силой обуянным... Явился предо мною свет, как часто мечталось. И вот стою я у трона, где Сам в силе своей и красе восседает и праведников милостями благодатными одаривает. — Гордыня твоя велика, — говорит мне, — но достоин ты снисхождения, ибо не помнишь зла и за восставших на тебя хлопочешь. К какой цели желаешь дальше двигаться? От нового рождения я, понятное дело, отказался. Незнакомого в монастырском быту для меня нет, обрыдло одними и теми же закоулками шаркать. А за стенами обители, как известно, — мрак и бесовщина. Попросился в бесплотные исполнители Божьего Святого Замысла. Задумался Господь: ангелы до материального мира созданы, природа их необыкновенной тонкости, а я из людей происхожу. Не по уставу, а значит, риск. Справлюсь ли? Тут рядом со мной мой ведущий встал — ангел опытный. Гавриилом звать, но не архангелом. Гавриил меня с самого начала вёл — принял под опеку духовным семенем, ни в каких качествах не проявленным. К великому понукал, спасибо ему! Только я оказался резвее его наук, и Гавриил оттого, наверное, растерялся. Уговаривал не спешить к святости, земных нечистот не чураться: искать в них жемчужное зерно. У трона же Гавриил прозрел, наверное, что прав был не он, а я, но признать вслух своё заблуждение не решился. Пред Господом поддержал: — Поручи чаду сему особую ангельскую службу — в лабиринтах её разбираясь, скорый ответ на неправду свою получит. Талантливо дитя и чистосердечно, но без меры упрямо. Отчаялся я наставлять его, хоть и не умею отчаиваться... И наградил меня Бог желанным местом: определил в особую ангельскую службу, испытательный срок назначив. Правильно, значит, я Гаврииловыми советами пренебрегал. Послушался бы, по сию пору к трону не был бы допущен. Пахал бы на себя, обыкновенного, а не на Его Великий Святой Замысел. Заниматься мне досталось делом чрезвычайной важности: молодые души учить добру и к земной скорби готовить — подбирать им родителей, время зачатия, выявлять склонности, толковать судьбу. Ничего подобного я до того не делал, но жаждал усердно учиться. Благо, Гавриил доходчиво объясняет и иногда даже картинками показывает. Узнал я от него, что на земле сейчас, как никогда, тяжко — народами владеют разврат и легкомыслие. Нравственность упала, искушения множатся. Куда ни глянешь, семьи грехами исковерканы. Некоторые и вовсе забыли, для чего существуют. То в одну дурь впадут — родовую амбицию выпятят, то в другую — промотают потенциал предков... А лишающий разума дурман? А навязчивое побуждение к тратам? А изуверство властвующих? Молодая душа — она мягкая, её легко по неправедному пути направить. И не убережёшь ведь! — Есть у ангелов одна слабость, — сетовал Гавриил, погружая меня в купель новой службы. — С материальным мы никак не связаны, о делах земных судим не непосредственно, а глядя на них внутренним оком человеков. Люди же — создания неустойчивые, сегодня одно суждение имеют, завтра другое, главного не замечают и, по правде, не хотят замечать... Легко с такими впросак попасть и натворить неладного... И урок дал, как ангелы от ошибок бегут: считал при мне какие-то знаки и пересчитывал, разномастные суждения сравнивал, с особо доверенными телесными сущностями советовался... То у него тенденции, то вероятности, то корреляции, то дисперсии... Чуть не рехнулся я, одну из его формул подсмотрев... — Если бы одинаковыми тропами по жизни не кружил, к миру присматривался — помог бы сейчас... — пенял мне. — Что за польза от неуча! — И к чему в том миру присматриваться?! — бунтовал я. — Грех один и всяческая суета... — Думаешь, земля добром и злом равномерно засеяна? — не унимался Гавриил. — Есть места чище, есть грязнее... Вероисповедания опять же несходные: каждое по-своему человечью суть открывает... В богатых странах одни беды, в нищих — другие... Наши птенцы неоперившиеся — что увидят по первости, то за правило и возьмут... Должны мы до мелких деталей понимать их пользу: в каком качестве птенец посильнее — обременить испытанием, в каком послабее — оградить благоразумием ближних... — заметил, что я снова возразить алчу, отмахнулся: — Хватит лясы точить! Ступай к подопечным. Привыкай к ним, характер будущий угадывай… Доложишь потом, у кого к чему склонность... — и отослал от себя. Молодые души сильно меня растревожили. Есть в них такое, от чего самая твоя сердцевина прекрасным цветком распускается. Светятся чистотой, зла не ведают, верят каждой мысли наставника — любовью их щенячьей полнишься, словно брагой: весело с ними и светло. Не бывает в земной жизни такого счастья, какое они дают. Прыгают крохи забавными сполохами по уютным нирванным колыбелькам. Любопытно им, конечно, на вселенную поглазеть, но к границам яслей своих не приближаются: боятся ненароком вывалиться и в неведомых просторах себя потерять. А ты тут как тут, сильный, милосердный... Достанешь из колыбельки кроху, обнимешь — и полетит она с тобой бесстрашно хоть на край света. Доверяет... Из всех молодых душ одна мне больше других полюбилась. Светлячком назвал и учил терпеливо. Была она лучезарная и трепетная — не встречал раньше подобных ей... Так сложилось до того в моём житии, что обходился без товарищей: в ангелы рвался. А со Светлячком родственность почуял... Размечтался, как станет она мне другом: повторит праведные подвиги, попросится на службу Божьему Святому Замыслу... Выходцы из рядов человеческих, воспарим мы к высотам ангельским, Господа и Его Творение прославляя... Гавриил заметил мою к Светлячку склонность и определил её первой под мою ответственную опеку. Обсуждали и радостное, и дурное, наблюдали, на какую мысль ярким свечением отвечает, от какой — робеет и гаснет... Ничего, касаемого моей подопечной, в особой ангельской службе без меня не решали... Я такому уважительному отношению был несказанно рад. Выверили, под какой звездой Светлячку родиться, — год, день, час, минуту, секунду, со вселенной полюбовно договорились... Начали подбирать место обитания, семью — и пошла у меня голова кругом! Считает Гавриил варианты, расписывает, как он говорит, «удовлетворительные», а я их отметаю напрочь. Наставник руками разводит: «Где взять иные?» Но меня вокруг пальца не обведешь: для Светлячка расстараемся, отыщем единственный — лучший! В одном Гаврииловом предложении — мать злая, себялюбивая. У меня такая была, еле сберёг душу. Всё хорошее в Светлячке надломит!.. Во втором: до старости суждено было бы неисцелимыми болезнями недужить. А как привыкнет молодая душа кряхтеть и жалиться, лучезарность потеряет, разве могу допустить?.. В третьем варианте совсем мрак: новорожденной в возраст входить в столице, где разврат, беззаконие и жадность правят!.. В четвёртом Гавриил экзотику учудил — Светлячку в мир при помощи искусственного зачатия явиться: не в свободной стихии соития мужчины с женщиной, но под властью конвейера человеко-роботов. И не шутил ведь наставник, прости его Господь!.. Наконец одобрил я и место рождения, и родителей. В небольшой горной деревушке, от злачных мест и столиц вдалеке. Суждено было Светлячку жить с матерью доброй, расти скромной девочкой и на шестнадцатом годке в одночасье погибнуть. Меня больше всего ранняя смерть привлекла: не достигнув зрелости, не успев к греху привыкнуть, отдаст подопечная Богу душу... Нечистые бесы в ад не утащат, я по выходе из тела встречу, прижму к сердцу. Поведу дальше по духовной стезе... На следующее рождение в монастырь пристрою, чтобы побыстрее человеческие страдания завершила... Счастлив был, как маленький: хорошо позаботился о молодой душе. А Гавриил головой качал и тревожился: нравы в горах жестокие, отец нашего Светлячка — боевой человек. Хоть и погибнет через два года, напугать успеет. А по смерти его защитить мать и дочь станет некому... Провожая подопечную на землю, оба мы чуть не плакали. Каково молодую душу в скудость любовную и дружескую отпускать? Но расти ей всё равно надо. Без земной борьбы, чтобы дух напрягался, плохое от хорошего отличая, не повзрослеет. Как границы свои узнает, не выстояв против чуждого? Благословили и отпустили с заботливыми наставлениями... Началась у Светлячка отдельная от нас жизнь. В самый момент зачатия нам с Гавриилом пришлось много потрудиться, помогая подопечной связь с небом сохранить, — в зародыш родители не любовь, земную страсть вкладывали, обрекали его на бездуховное существование, зверю, но не человеку естественное. Общими усилиями с бедой справились: укоренившись в плоти, не перестала молодая душа слышать вышнее... Пока во чреве росла, была еще наполовину наша: позовешь — охотно откликнется, словно только того и ждала. Но вниманием уже отдалась материальному. Постепенно в дебрях его осваивалась, телесные знаки изучала и по-своему взаимопонимание с миром налаживала. Ощущениями новыми забавляясь, на разные лады их повторяла и переиначивала. Тени внешнего многообразия, через материнские чувства проникающие, с нежностью встречала. Тянулась к жизни, будто к гостинцу долгожданному. Наконец собственными лёгкими задышала. Камнем канула в зыбучий песок преходящего. С мига, как родилась девочка на земле, лоно покинув, возникла между молодой душой и мною преграда, точно стеклянная: око моё Светлячка зрит, замечает и тучи, на лучезарность её надвигающиеся, а помочь никак не дотянусь. Пока сама не обратится, мыслями не достать... Затосковал я от глупой своей беспомощности. Потерял всякое удовольствие заниматься с подопечными. Видел в них одни изъяны, что для наставника большой грех. От дурного спасался молитвами и чистосердечным откровением перед Гавриилом. Со временем смирил себя и стал, как раньше. Счастье ангелов, что дрёма младенческая невинна и устремлена к свету бывает, — во сне подопечные всегда нас слышат. Подгадывал я, когда голубица моя уснёт, и скорей к ней. Ласковыми наставлениями поддерживал молодую душу. Иногда забирал её полетать по вселенским просторам, чтобы от земного сумрака отдохнула. Но Гавриил нашим частым путешествиям препятствовал, будущим бессилием и вялостью девочки пугал. Привыкнет, мол, она к бестелесной лёгкости и откажется напрягаться, материю своей воле подчиняя. А младенец спал всё меньше и меньше, расстояние между свиданиями увеличивалось… Взрослела Светлячок. Начала понемногу мыслями разговаривать, а до того, как в плоть облечься, только свечением отзывалась на внимание наставника. Вот тебе первая польза от материальных мук — скованная телесной темницей душа не может, не овладев речью, к себе подобным приникнуть. От одиночества спасает её соединение словом, которое есть соль мудрости многих. Познавая язык, впитывает душа основы умствования... Наивной своей, детской логикой осмысливала подопечная ежечасные происшествия. В сон теперь не радости несла — горестные сожаления о человечности попранной. Отец их с матерью обижал, иногда рукоприкладствовал, к послушанию принуждая. В своей нирванной колыбельке не могла Светлячок насилия представить, как ни разжевывал я ей законы вещественности. И сейчас просила милосердие в людях скорее взрастить или забрать её в ангельский приют обратно. Бессилен я был помочь в первом, а во втором — против судьбы не желал действовать. Мать свою успела полюбить, ради неё убедил задержаться на земле... Настали времена, когда дочери с матерью стало многократно сложнее прежнего: глава семейства погиб, брат его вступил в наследство — имущество покойного вместе с домочадцами под себя принял. У Светлячка множились хозяева: кроме дяди, две его жены, между собой соперничающие, трое братьев двоюродных и четыре сестры. Кормились они с матерью в новом дому тем, что после других оставалось, а на хозяйстве заняты были с утра до вечера. Со мною подопечная продолжала ночные беседы — делалось ей оттого легче. Наставника за отца принимала, настоящего быстро забыла. Прожила так девочка ещё три года. Но исполнилось ей пять лет, и потерял я к сердцу её ключи. Прилепилась Светлячок до самой глубины к материальному миру, целиком подчинила себя суетному. Что тётки ей говорят, стало важнее моих поучений. Да и двоюродные сёстры с куклами авторитет набрали, начали её нуждами управлять. На дядю и братьев подопечная и вовсе глаз не поднимала — пресмыкалась без ропота. Представить не смела, чтобы перечить. Проросли родичи в молодой душе сорняками, замутили неправедным лучезарную суть. Всё реже видела подрастающая голубица невинные сны, наоборот, чрез неё греховное на меня изливалось, обжигая смрадом. Мечтала она то в тёткину золотую мишуру на праздник нарядиться – полгода донимала глупым фантазированием, — то соседское счастье присвоить, чтобы было её семьи, а то и, вопреки заповедям, помочь дерзкой подруге с пастухом пришлым тайно встречаться... Измельчали стремления, да что поделаешь? Гавриил, в особую ангельскую службу меня вводя, советовал не привязываться накрепко к подопечным. Объяснял: чисты юные по неопытности, а не по зрелому духовному выбору. Искусить их легче лёгкого, окунаются они по рождёнии в самую чёрную грязь... Пришлось отвратить себя от частого заглядывания в дорогую душу. И дел было невпроворот, и жалко видеть, как без толку растрачивает Светлячок любовь, верноподданной земным кумирам служа. Изредка теперь наведывался — по пальцам можно пересчитать ночи. Помню, молилась усердно, просила матери здоровья... Ещё случай: конь лягнул, до заикания напугалась... В восьмом году сестрицу любимую со слезами замуж проводила... В десять с половиной двоюродный брат к сожительству склонял и чуть не изнасиловал... В тринадцать матушку схоронила с глубокой скорбью... Голубица моя, хоть стелилась подо всех, но крупных грехов не свершала, и небо над её головой оставалось открытым. Хранила её моя наука: не ненавидела обидчиков, не отвечала на поругание злом... К четырнадцати превратилась девочка в писаную красавицу. Глаза в обрамлении пушистых длинных ресниц, миндалевидные, с поволокой. Нос тонкий, ноздри искусно вырезаны. Кожа нежная — с персиком люди сравнивали. Фигура — кипариса стройнее! Испугалась родня, что выкрадет сокровище нищий какой оборванец, и запретила Светлячку со двора выходить. Скоро просватали за именитого боевого человека, который по норову с отцом её родным был схож. Повторила подопечная судьбу матери, только той первой женой повезло стать, а Светлячку выпало второй. С песнями и танцами увезли в дальнее селение. Завершилось празднество, начались будние дни. Муж в постели не ласкал, брал без бережности. Старшая жена, завидуя красе младшей, к каждому шагу придиралась. Сделалась голубица моя в чужой голубятне рабыней пуще всех прежних лет... Молодая душа, как привыкла, тиранство семейное терпела, старалась, поношениям вопреки, домочадцам угодить: мужних сыновей капризы успокаивала, в огороде усердно грядки вскапывала, за скотиной убиралась и кормила старательно... Надеялась, глупая, что, труд и доброту её оценив, приласкают ближние. Дитя ведь совсем, а в чёрном платке по самые брови, балахон вместо платья — скрывает синяки да царапины, злобой новых родичей содеянные... Если бы судьба ей была монахиней стать, я бы одеяниями такими гордился. В миру же суетном, без счастья близости к Господу, и терпеть над женской своей природой надругательство — не по-божески это, по-моему... За грех осуждения прости меня Всевышний! Время двигалось, становилось все тяжче, но... По правде, представить не мог я, что даст покорное мученичество Светлячка и удивительно добрые всходы. От нехватки сиюминутных радостей начала девочка вглубь себя уходить, вспоминать детство, матушку любящую, наставника, от отца заботливого не отличимого. Мать на её слёзы не откликалась — не того могущества была душа, чтобы по смерти прежнее помнить, а я всегда на зов являлся... И принялись мы с подопечной, как в раннем младенчестве, сокровенным своим делиться. Только тогда я, что за важное почитал, дарил ей, а сейчас она меня за собой тянула, обо всем на свете любопытствуя. Поначалу больше с гаданиями детскими приставала: наведается ли дядя?.. принесёт ли коза приплод чёрно-белой окраски?.. не съест ли соседский пёс птицу, лапку сломавшую?.. Отвечал я уклончиво — страшился молодую душу к ворожбе приохотить. Когда же серьёзным интересовалась, разъяснял, чтоб могла понять, тщательно. Беседовали мы о каждой из её сестёр, какая судьбой богаче, какая беднее, и почему случилось с ними в жизни так... Потом о тёткином застарелом ревматизме речь зашла: за вину ли страдает или по случаю заразилась болезнью... Незаметно ночные наши беседы в часы бодрствования перетекли: не желала подопечная ни на минуту от них отвлечься. Руки девичьи работу делают, а разум, с моим в согласии, мудрости алчет: — Хорошо ли батюшке с матушкой на том свете, поселил ли их Бог в райских кущах?.. Всегда ли спасение добрым положено?.. Велика ли вселенная и где у ней край?.. Раз за разом подопечная мыслью дальше залетала, облачком небесным в необъятности путешествуя. Сущее пытались постичь. А однажды причину стыда своего со страхом решилась узнать. — За что я бесплодна людям на унижение? — спросила меня. — Почему Господь год целый меня пустой держит? Так и проживу до старости презренной служанкой, не родив никого?.. Гавриил разведал уже, откуда беда нашей девочки, и со мной обсудил узнанное: поила старшая жена Светлячка зельем, чтобы во чреве не понесла, — препятствия чинила появлению соперника своим сыновьям. При живом муже вела сражение, коварная, за возможное от него наследство. Не судьба была голубице моей птенчика высидеть, но воздастся обидчице в грядущем за это в стократ! Скоро по кончине Светлячка мальчиков своих убиенных схоронит... Эх, вы, люди! Неизбежно в мир проникает зло, но впустившему его чрез душу свою — горе... Я о преступлении старшей жены до того молчал, потому что жизни оставалось подопечной всего восемь месяцев. Сейчас посоветовал травяного чая на ночь не пить, за окошко выливать его тайно: злодейка раскрытия замысла своего чтоб не заметила и хуже порчи на младшую не навела... Потряслась Светлячок беззаконию ближней. Тяжело задышала, сжалась в комок боли. Как ни крепилась, слёзы всё одно пролила... — Отчего люди жестоки? — пытала меня. — Какое им в том счастье? Неужели Господа не боятся? — поплакала, укрепилась, помолчала. Вдруг новый вопрос задала: — Каков Господь? Ведает ли, как тяжко душа на земле страдает? От неожиданности я дар речи потерял. Никогда молодая душа про Самого не спрашивала, довольствовалась людским словом или не интересовалась вовсе. Я же из бережности к воле её старался законы толковать, личности Творца не касаясь. Наконец нашёлся во мне ответ: — Знает Господь о твоих бедах. И помогает, чем в силах помочь. — Разве Всемогущему не всё по силам?! — воскликнула с недоверием. — У Господа границ нет! — Граница его — закон, им установленный. Если преступит, во вселенной порядок нарушится. Хаос станет царствовать, а не Всевышний... Два дня молчала, обдумывая. На третий опять за своё принялась: — Что это за закон такой, по которому у меня счастливых минут было несколько, а несчастные длятся и длятся... Или я виновата — за то сурово наказана? — Ты душа молодая, — пытался ей разъяснить, — откуда вина могла взяться? В лишениях учишься судьбу себе выбирать и жизнь светлую строить... — Раз молодая, то не умею я ничего! По закону должно быть как? Не умеешь — тебя лёгкому учат, повзрослеешь — трудному... Или я неправильно о законе мыслю? — Мыслишь правильно. — Как же, глупой, мне доверил Бог судьбу себе выбирать? — Не сама выбирала. Я помогал. — Почему ты? Господь не только меня — и тебя умнее, пусть выбрал бы! — Бог слишком велик. Судьбами множеств озабочен... Если станет за молодую душу думать, получится воля его в сравнении с твоей, точно непреодолимая стихия... Не хватит тебе внутреннего сопротивляться, а значит, и ему в тебе опоры не будет... Станешь пред Богом куклой, не человеком. Бережёт тебя от силы своей Всевышний, чтобы выросла и сделалось внимание его для тебя безопасным... На два долгих месяца отвернулась от меня девочка. Жизнью своей жила, размышляла, в сон погружалась — всё в одиночку. Наконец заговорила нежданно — то ли сомнение, то ли упрёк обратила к наставнику: — Не понимаю тебя, отец, оттого и молчала. Дошла я до сердцевины души и теперь уверена: не я выбирала. По чужой воле в горах родилась... Бросило меня в жар, ибо вспомнил. Спорили мы с Гавриилом, усердствовал я пред ним, желая Светлячка к ангелам скорее приобщить. — Не себялюбива твоя подопечная, не надо её укрощать! — противостоял ведущий. — Учи молодую душу земным радостям! Учи властвовать над другими, своего добиваясь. Подчиняться она и так умеет!.. С собой не ровняй: не ей — тебе норов обуздывать надо... В горы души бурливые стараемся посылать, чтобы страсти их суровостью места стреножить... Мнение моё таково: полезно подопечной в столице расти. Давай и саму спросим! Взяли мы голубицу из нирванной колыбельки, чтобы о месте рождения совет держать. Но она не слушала, лепилась к моей душе: чуя гнев, успокаивала нежностью. Понял ведущий: непреодолимы её ко мне доверие и любовь. Отступил от нас, высказав мне укор напоследок... … Повержен я стал словами девочки. Не мог правдиво ответить, но не мог ведь и солгать. Довёл до неё, что удаляюсь на размышление... Целиком погрузился во внутреннее... Вспоминал былое, насилие мерил в прежних жизнях встреченное. Дошёл погодя: сравнимого с несвободою Светлячка испытывать не пришлось. Меня ближние хоть и давили, нарушали равновесие чувств, но не ломали жестоко, не губили самость... Послушание в монастыре принял добровольно, отшельничество и скудость его были по душе... Представил, что чувствовал бы под гнётом домочадцев... Да-а... Восстал бы на обидчиков, себя не удержал бы!.. Младенцем возвратился бы в ангельский приют... Горе мне! Считал я подвигом короткую битву с богоборцем. И как гордился собой: кротостью одолел и нет мне предела... А мог бы я живым сносить власть неправедную?.. Господи, прости грех мой смертельный! По упрямству моему пала молодая душа в земной ад... И я ли выстоял в жестоком своём убийстве?.. По дурости бесстрашен был, не по уму! В неравной битве той хранил меня ведущий. А я, неблагодарный, к престолу за наградой кинулся, а не ему с любовью поклонился...
Отчаялся я до края, в глубине собственной души встретив тьму. Неблагодарен, самонадеян, жесток, кичлив — и в ангелы ему не терпится записаться! Погубил подопечную, презрел мудрость наставник... Безбожник — имя мне! И уже не поправить! Потеряла, поверив мне, Светлячок лучезарность. А теперь под угрозой сама её вера в вышнее... Жив был бы, от омерзения к подлости своей руки на себя наложил бы, — и на наихудший из грехов оказался способным... Делил с братьями в монастыре хлеб поровну — и старшим, и младшим, и не ценил дружественности. Слушал песнопения в храме — и не плакал от благости. Доброты мира Божьего не восхвалял... Да кто я такой! Насильник над малыми! Самозванец в ангельском чине! Самой лучшей на свете, лучезарной души губитель... Винил я себя, проклинал яростно, но надолго не смел в горести своей задержаться. Светлячка надо было спасти, за грехи принять наказание... Отправился, главу понурив, на покаяние к Гавриилу. — Не справился я с особой ангельской службой, — признал со слезами. — Грехом заразил молодую душу. Она, меня наблюдая, о Господе рассудила, что он в её несчастьях виновен. Опасаюсь, отпадёт из-за меня от вышнего... Возьми Светлячка под ответственное попечение, спаси её от семян моего греха... А меня в ад мучиться с грешниками отправь, ибо достоин. Странно посмотрел на меня ведущий, не заметил я в его глазах ни гнева, ни осуждения, — одно сочувствие. — Знал, что сильна твоя подопечная! — ответил. — Не представлял только, как быстро взрослеет... Упрямство твоё безрассудное, о которое я, словно о камень, полтора века бьюсь, с удивительной лёгкостью истребила... Снизошёл к моим мольбам Гавриил, согласился объяснить Светлячку, что не Бог виновен, а мы с ней — наставник неопытный и безмерно доверчивая ученица. Насчёт ада сказал: «Господь решит!», и позвал с собой Светлячка о наставнике мнение выслушать. Спросил голубицу, желает ли, чтобы он её вёл, раз я на себя не надеюсь и в ад хочу удалиться. Девочка, выслушав, Гавриила за заботу поблагодарила, но отойти под его опеку наотрез отказалась: — Отец берёг меня и радость дарил. Если и грешен, нет у меня на него обиды. Разве достойное дело, доброе забывать, хоть и виновен заблудший? К тому ли толкаешь? — Самоё тяжкое впереди, — не отступал ангел. — Если хоть малое недоверие к отцу имеешь, разойдись с ним сейчас и прими мою руку... Когда в последнюю битву со злом вступишь — одна не выстоишь... — Боли боюсь, а смерть мне в радость. Что я в жизни этой хорошего видела? Дорогие мне души вне материального, к ним и стремлюсь... Боль и отец хорошо утишает, не отвергну его оттого, что ошибся... разве достойное дело советуешь, учитель? Меж тем в жестоком бою пал муж подопечной. На поминках побратимы его клялись страшную месть за покойного свершить — множество врагов разом за врата материальности выслать. Старшая жена на Светлячка тут же указала: пустая, мол, во чреве, юродивая, сама с собой днями болтает — не покажется она врагам опасной, беспрепятственно смерть народу их пронесёт... И послушная младшая во всём, убеждала боевых людей злодейка. Коли велите, на гибель безропотно пойдёт, тем паче за мужа отомстить ей почётно... Забрали подопечную в тайный отряд, поселили в каморке вместе с двумя женщинами: одна сына в необъявленной войне потеряла, другая — брата. Должно всем троим убивающие пламенем и свинцом пояса под платья надеть и на праздник к врагам неприметными явиться. Народу вокруг соберётся видимо-невидимо, сольются сошедшие с гор женщины с толпой, а опытный человек в нужный час пояса их взорвёт. Подруги Светлячка по собственной воле мстить шли, а подопечную командир силой заставлял убивать учиться — хлеба не давал, пока не исполнит, что велели, день за днём унижал без жалости. Не умела молодая душа не подчиняться: плакала, но делала указанное. — Не будь послушной насилию, — умолял её. — Как искупим грех, если погибнут от тебя люди? Утащат бесы в бездну, не дотянусь... — Страшусь командира, — и заплакала. — Жестокой волей к послушанию принуждает... — Соберись, голубица, — просил. — Борись со пугливостью... Не оставь меня одного, не погуби... — Стараюсь, как умею... Мне бы выучиться, телесные страдания терпя, воли не терять... — Учись, родная... Крепилась так духом. В час роковой отказалась Светлячок надевать убивающий пояс. Избил её за это командир, но лица не тронул, чтобы народ не насторожился, когда в него войдет. Схватила Светлячок со стола нож и порезала щёку до крови. И опять бил её изувер, а потом велел двум своим боевым слугам ослушницу насиловать, чтобы место женское под мужчиной знала. Были мы с ней и в этот час вместе — душа к душе, и рвали нас на части, и до нутра выворачивали, но мы терпели... А потом на больную командир убивающий пояс надел и велел двум другим женщинам под руки её на праздник вести, когда тайный автомобиль покинут. Говорить людям: упала, мол, подруга в судорогах на острое и лицо порезала. О помощи просить... Набегут любопытные, сочувствующие — все от смертельных поясов погибнут. — Не может больше тело терпеть... — шепчет мне. — Нет у меня выхода, пойду с ними... Хоть к Богу, хоть к бесам — сейчас всё едино... — Держись, любимая, — отвечал. — Мы с тобою не одни против зла стоим... Молись о спасении Богу, а боль отдай мне — вытерплю... И отдалась доверчиво душа Светлячка моей душе, потеряла себя — сделались мы одним, а страдание общим. Но и вместе нам бы не удержать, перелилась мука через край терпения. Подоспел Гавриил, принял нас, помог выстоять... На подмогу Гавриилу его старший явился, ношу трудную разделил... За ним старший его по чину... Волной прокатилось по воинству ангельскому единение против зла. Поднималась волна всё выше и выше, пока сам Господь не закрыл молодую душу волей своей... … Не довел командир Светлячка до тайного своего автомобиля, чтоб конем троянским к врагам заслать: исхитрилась она выскользнуть из-под его власти. Когда из дома выводили, кинулась вниз с высокой лестницы . От удара замкнуло убивающий пояс, покинула голубица материальный мир. Миг пред свободой её переполнил нас самым нестерпимым страданием, но вырвалась душа из земных тенет, воссияла средь нас звездой лучезарною... Блаженна ты в славе своей, сестра! Да благословит тебя Господь, любимая!..
Философская проза Ирины Лежава. Что еще почитать: Философская проза: О духе и душе Философская проза: Духовно-социальный парадокс человечества-1 Философская проза: О почтении к родителям
стр:
|
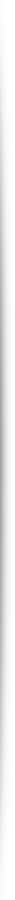
|